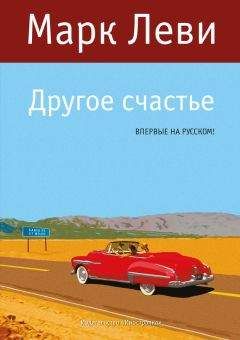Ознакомительная версия.
– Он был вашим женихом?
– Иногда ты такое ляпнешь, что я начинаю сомневаться, кому из нас тридцать лет, кому пятьдесят с хвостиком. Я была от него без ума и воображала, что пользуюсь взаимностью.
– А вот это действительности не соответствовало?
– В этом я так и не разобралась. Все было слишком сложно.
– Чем он занимался?
– Тем же, чем все мы: учился.
– Чему?
– Честно говоря, уже не помню. Когда мы познакомились, в университет уже принято было приходить только на демонстрацию. У нас были другие темы для разговоров кроме учебной программы.
– А против чего вы протестовали?
– Не против, а за: за прекращение войны во Вьетнаме, за то, чтобы правительство положило конец этой бойне, за новый мир, в котором возобладали бы гуманизм и социальная справедливость. Увы, наш бунт выродился в утопию. Я была тогда очень, даже слишком молода, вот и примкнула к движению, когда мечта уже умирала. Но идеи у нас были замечательные! Мы не подчинялись законам, были свободны и испытывали эйфорию… – Взгляд Агаты стал отсутствующим. – Свобода все время была у нас на языке. – Мы принадлежали к движению «Студенты за демократическое общество». В него входили сотни тысяч молодых людей, свято веривших в неизбежность революции.
– Вы принадлежали к хиппи? – спросила Милли насмешливым тоном.
– Скорее к битникам. Мы называли себя бит-поколением. Вся наша жизнь была пронизала литературой и джазом, а еще сексом и наркотиками – из-за этого все и рухнуло. Наверное, ты о тех временам ничего не знаешь.
– Джо заболел бы от зависти, если бы узнал, что я вожу компанию с такой, как вы! – выпалила Милли, вдруг очень заинтересовавшись.
– Это еще почему? – весело спросила Агата.
– «Я видел лучшие умы моего поколения разрушенные безумием, умирающие от голода, истерически обнаженные, волочащие свои тела по улицам черных кварталов, ищущие болезненную дозу на рассвете…»[4] – стала пылко декламировать Милли. – Поэма Гинзберга «Вопль» – его фетиш, он читал ее мне десятки раз. Он молится на Гинзберга и Керуака, «В дороге» и «Голый завтрак» Берроуза знает наизусть.
– Не знала, что у них остались поклонники. Приятно слышать, что есть еще молодежь, не довольствующаяся повседневным комфортом. Этот Джо мне уже очень нравится.
Милли не ответила на обидное замечание.
– Кто бы мог подумать, что какое-то стихотворение станет искрой, воспламенившей Америку? – продолжала Агата. – Кто мог угадать, что этот текст обладает разрушительной силой, что несколько запретных фраз покончат с конформизмом, этим намордником для души? Его крик в той или иной степени долетел до всех нас. А тут еще этот судебный процесс! Представь, в 1957 году двое полицейских в штатском из бригады по работе с несовершеннолетними заходят в книжный магазин, покупают экземпляр «Вопля» и арестовывают Ферлингетти, хозяина магазина, под тем предлогом, что он торгует книгами непристойного содержания. В наши дни такое невозможно вообразить, особенно здесь, а тогда – сколько угодно! Процесс получил общенациональную огласку. На стороне защиты выступали самые видные литературные критики, на стороне обвинения – самые яростные апологеты пуританства. Эти идиоты дошли до подсчета бранных выражений в поэме. Вот смеху-то: никогда еще в истории юстиции слово fuck не произносилось столько раз в зале суда! На счастье, судья пришел к заключению, что поэма имеет общественное значение, и отклонил иск. Сторонники цензуры и строгой нравственности получили пощечину. Гинзберг превратился в звезду и сделал бит-поколение контркультурой, от которой никто уже не мог отмахнуться. Твоя мать никогда не рассказывала тебе о тех временах? А ведь это была и ее молодость.
– Почему, рассказывала. Она говорила, что никакого бит-поколения не существовало, что оно исчерпывалось кучкой молокососов, наивных бумагомарак, мечтавших, чтобы их напечатали.
– Каждый имеет право на свою точку зрения, – процедила Агата. – В моей жизни эта поэма сыграла решающую роль. Если бы я ее не прочла, то наверняка прожила бы жизнь совершенно по-другому.
– Как это?
– Мы были небогаты, в студенческие годы приходилось сильно экономить. Почему бы мне не стать секретаршей, не работать с документами? Я ужасно любила читать.
– Так чем вы занимались все эти годы?
Агата, глядя в окно, тяжело вздохнула.
– Путешествовала, – прошептала она.
После этого она молчала до самого Геттисберга, уставившись на убегающую из-под колес «олдсмобиля» асфальтовую ленту.
– А наркотиками баловались? – полюбопытствовала Милли.
– Пробовала много всего вредного, но мне повезло: я не потеряла голову, не впала в зависимость. К тому же насмотрелась на друзей и подруг, отправлявшихся в безвозвратные путешествия, поэтому быстро завязала. А вот что до секса, то ему надо было бы предаваться поактивнее… Эти паршивые наркотики оказались сильнее всех обещаний нового мира, сильнее самой расчудесной студенческой революции.
– Ваши друзья в ней участвовали?
– Да, только их теперь осталась жалкая кучка.
– Что стало с остальными?
– Многих прикончил ЛСД, а не он, так алкоголь и нищета. Других убили.
– Кто?
– Полиция и ФБР по указанию правительства.
– Не понимаю, за что! – воскликнула Милли.
– Это же ясно как божий день! Мы их здорово напугали: четверо студентов из шести считали революцию неизбежной и необходимой. Мы создавали коммуны трудящихся, организации женских коллективов, из нас вырастали первые сообщества геев и лесбиянок. Но хуже всего то, что мы боролись с порядком, продиктованным правящими классами, бросали вызов, и они не могли этого стерпеть. В Геттисберге нас ждут поля сражений, где решалась судьба Гражданской войны. В конце шестидесятых – начале семидесятых годов страна стояла на пороге новой гражданской войны, и потребовались кровавые репрессии, чтобы ее предотвратить.
– Они убивали студентов-пацифистов?
– Десятками! Но мы были не только пацифистами, некоторые вступили в вооруженную борьбу. Уличные сражения, акции неповиновения, покушения с применением взрывчатки происходили все чаще, и участвовали в них сотни.
– Вы тоже этим занимались?
– Не без того, – призналась Агата.
– У вас на руках была кровь?
– Нет, только на лице – от полицейских дубинок.
Агата наклонилась к Милли, раздвинула две пряди волос и не без гордости продемонстрировала длинный шрам на голове.
Машина вильнула в сторону, правые колеса чиркнули по обочине. Милли вцепилась в руль и выровняла ход.
– Сказано тебе: смотри вперед! – крикнула Агата с плохо объяснимым негодованием. – Но нет худа без добра: я вспомнила обстоятельства знакомства с ним. Дело было на кампусе. Он не выпускал из рук кинокамеру и постоянно снимал. Он готовился стать журналистом, хотел сделать это своей профессией. А может, он мечтал о кино? Теперь уже не припомнить…
– Ваш роман длился долго? – спросила Милли.
– Поезжай в направлении Хейгерстауна, мы скоро въедем в штат Виргиния.
Милли удивил вид, с которым Агата это сказала: можно было подумать, что, покидая штат Пенсильвания, она испытывает сильное облегчение.
– Мы с ним были сообщниками целых два года, – продолжила Агата. – Наверное, твоя мать была права, называя нас наивными. Я никогда не переставала о нем думать.
Этот безобидный с виду вопрос навел Агату на новые воспоминания, казалось, напрочь вылетевшие из головы, словно на кошмары, которые после пробуждения забываются.
Она опять слышала вопли студентов под ударами дубинок в облаках слезоточивого газа, видела слезы на щеках друзей, снова переживала те утренние часы января, февраля и марта, когда под ногами длинных похоронных процессий чернел снег. Она снова видела безумные глаза родителей, раздавленных горем и чувством вины, так и не понявших, почему их дети поднялись на борьбу и стали инакомыслящими, и неспособных возненавидеть их убийц.
Некоторые ее друзья никогда больше не видели своих близких, по десять лет не говорили с ними по телефону; она тоже перестала общаться с матерью. Вместе с друзьями она ушла в подполье, оставив близким вместе с призраком своей юности нерешенный вопрос: почему она выбрала мрак безвестности в стране свобод?
– Потому что эти свободы попали в темницу, за высокие стены, которые возводились при попустительстве их поколения, – пробормотала Агата. Ее губы дрожали. – Это стены, за которыми нет прав у меньшинств. Это стены наших тюрем, забитых цветными, стены наших колледжей и университетов, где формируются образцовые студенты, необходимые индустриальному обществу. Это общество пожирает молодежь, которой легко помыкать, которая довольствуется малым. Нашим родителям не хватило отваги поставить под вопрос этот мир с его гомофобией и сексизмом. Они считали идеальным обществом свои комфортабельные пригороды, свои прожорливые автомобили, свои стерильные телевизоры. Наши матери, наглотавшись валиума, с утра провожали мужей, облаченных в серые костюмы. Наши отцы возвращались вечером, накачавшись виски…
Ознакомительная версия.