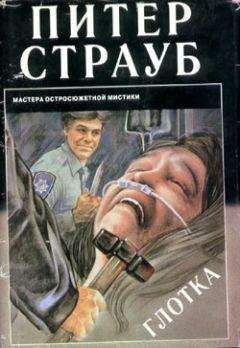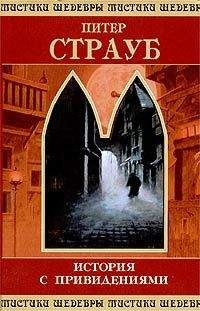На эти футбольные ужины очень редко приходили спортсмены из других школ, поэтому к нам обычно приводили польских мальчиков из приюта святого Игнация. Они ели, скрючившись над своими тарелками, словно знали, что их не покормят до окончания следующего футбольного сезона. Этим ребятам нравилось источать угрозу, и они, пожалуй, были ближе всех к тому устрашающему Богу, образ которого создавал в своей речи мистер Скунхейвен.
На закрытие сезона того года, когда Джон Рэнсом сшиб меня с пути Тедди Хэппенстолла, в конце первой, неофициальной части ужина в церковный подвал вошел высокий, отлично сложенный юноша. Через несколько секунд нам предстояло занять свои места и приготовиться слушать речь. На юноше был твидовый спортивный пиджак, брюки цвета хаки, белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, и полосатый галстук. Он купил себе гамбургер, покачал головой, глядя на бобы и макаронный салат, взял бумажный стаканчик с пуншем и сел рядом со мной. Я так и не узнал его до этого момента.
Мистер Скунхейвен подошел к микрофону и сначала прочистил горло, отчего в подвале раздались звуки, напоминающие ружейные выстрелы. Даже парни из приюта святого Игнация сели ровно и испуганно замолчали.
– Что такое Евангелие? – пророкотал мистер Скунхейвен, как всегда не считая нужным тратить время на предисловие. – Евангелие – это нечто, во что можно верить. А что такое футбол – заорал он еще громче, обводя нас свирепым взглядом. – Это также нечто, во что можно и нужно верить.
– Слова настоящего тренера, – прошептал мне на ухо сидящий рядом незнакомец, и только теперь я узнал в нем Джона Рэнсома.
Отец Виталь, наш преподаватель тригонометрии, нахмурился, осуждающе глядя на мистера Скунхейвена, который был протестантом, и это ясно чувствовалось в его речи.
– О чем говорится в Евангелии, – продолжал тренер. – О спасении. И футбол – это тоже спасение. Иисус не пропустил ни одного мяча. Он выиграл большую игру. И каждый из нас должен сделать то же самое. Что мы обычно делаем, видя перед собой ворота?
Я достал из кармана рубашки авторучку и написал на мятой салфетке: «Что ты здесь делаешь?»
Рэнсом прочитал мой вопрос, перевернул салфетку и написал на обратной стороне: «Решил, что здесь будет интересно». Я удивленно поднял брови.
«И это действительно интересно», – написал Джон Рэнсом.
Я немного разозлился: мне показалось, что он изображает из себя богатенького мальчика, обследующего городские трущобы. Для всех остальных, даже для ребят из приюта святого Игнация, церковный подвал был таким же родным и знакомым, как школьный буфет. Честно говоря, наш школьный буфет действительно напоминал чем-то этот самый подвал. Я слышал, что в Брукс-Лоувуд студентов обслуживают официанты и официантки, которые кладут на покрытые льняными скатертями столики серебряные столовые приборы. Настоящие официанты. Настоящее серебро. И тут мне пришла в голову еще одна мысль.
«Ты католик», – написал я на салфетке и ткнул Джона локтем.
Рэнсом улыбнулся и покачал головой.
Ну, конечно, он был протестантом.
«Ну так как же», – написал я.
«Я как раз собираюсь это выяснить», – написал Джон.
Я удивленно посмотрел на него, но Джон перевел взгляд на мистера Скунхейвена, который как раз сообщал аудитории, что спортсмен-христианин обязан пойти и убить во имя Божье, если это потребуется. Избить до смерти! Затоптать ногами! Потому что Он хотел, чтобы вы поступали именно так. И не надо брать пленных!
– Мне нравится этот парень, – прошептал, наклонившись ко мне, Джон Рэнсом.
И я снова почувствовал негодование. Этот выскочка явно считал, что он чем-то лучше всех нас.
Конечно, я тоже считал, что я лучше мистера Скунхейвена. Я считал, что слишком хорош для этого церковного подвала, не говоря уже о школе Холи-Сепульхра и восьми пересекающихся улочек, из которых состоял наш район. Большинство моих одноклассников будут всю жизнь работать на кожевенных заводах, консервных фабриках, пивных заводах и в мастерских по ремонту автомобилей, тянувшихся между нашим районом и нижней частью Миллхейвена. Я же знал, что если сумею получить стипендию, обязательно поступлю в колледж. Я собирался выбраться из нашего района, как только сумею. Конечно, я любил район, где родился и вырос, но любил его, пожалуй, только за это – за то, что родился и вырос здесь.
И тот факт, что Джон Рэнсом пересек границу моего района и подслушал бредовую речь мистера Скунхейвена, не мог меня не раздражать. Я приготовился довести это до его сведения, как вдруг взгляд мой упал на отца Витале. Он явно готовился встать со своего места и дать мне подзатыльник. Отец Витале точно знал, что человек грешен с самого своего появления на свет из утробы матери и что, как сказал святой Августин, «природа, которой человек нанес первый вред, скорбит до сих пор», сложив перед собой руки, я стал внимательно слушать мистера Скунхейвена. Джон Рэнсом тоже заметил, что старик в рясе готовится подняться со своего места. Он также сложил перед собой руки, и отец Витале, успокоившись, снова опустился на стул.
Должно быть, в моем раздражении было что-то и от самой обычной зависти. Джон Рэнсом был чертовски привлекателен – особенно в те времена, когда эталоном мужской красоты считался Джон Уэйн, – он легко и непринужденно носил дорогую одежду. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что шкафы Джона Рэнсома буквально ломятся от шикарных пиджаков и дорогих костюмов, на полках лежат стопки тонких рубашек, а в углу стоит специальная стойка для галстуков.
Мистер Скунхейвен закончил наконец свою речь, священник прочел молитву и объявил, что обед закончен. Все футболисты и бейсболисты из приюта Святого Игнация и Холи-Сепульхра кинулись вверх по ступенькам, ведущим на церковный двор.
Джон Рэнсом спросил, не должны ли мы отнести свои тарелки на кухню.
– Нет, они уберут все сами, – я кивнул в сторону усталых женщин из церковной общины, которые стояли вдоль стен. Это они готовили еду для сегодняшнего обеда, и многие из них принесли салат из макарон и печеные бобы в закрытых тарелках прямо из собственных кухонь. – А как ты вообще узнал об этом обеде?
– Увидел объявление на доске.
– Здесь, конечно же, все не так, как в Брукс-Лоувуд.
Джон улыбнулся.
– Все было хорошо. Мне понравилось. Очень понравилось.
Мы пошли вслед за остальными к лестнице. Некоторые ребята с подозрением оглядывались на Джона Рэнсома.
– Знаешь, Тим, – сказал Джон, протягивая мне руку. – Мне очень нравилось бороться с тобой на поле.
Я тупо смотрел несколько минут на протянутую мне ладонь, прежде чем пожать ее. В Холи-Сепульхра никто никогда не пожимал руки. И вообще никто из тех, кого я знал, не пожимал руки, разве что заключая сделку о продаже подержанного автомобиля.
– Тебе нравится быть защитником? – спросил Джон.
Я рассмеялся и поднял взгляд от наших сплетенных рук, чтобы разглядеть выражение лиц отца Витале и женщин из церковной общины. Они смотрели на меня с интересом и уважением. Я понял вдруг, что ни отец Витале, ни эти женщины никогда не общались с людьми вроде Джона Рэнсома, и для них вся эта сцена выглядела так, словно он специально проделал весь путь из восточной части города только для того, чтобы пожать мне руку. И мне захотелось вдруг крикнуть: «Нет, дело вовсе не во мне».
Потому что я понял вдруг еще одну вещь: каждый год администрация Холи-Сепульхра посылает людей, чтобы те расклеили по всему городу объявления об обеде Христианского спортивного общества, но Джон Рэнсом не только был первым учеником Брукс-Лоувуд, который пришел на такой обед, он вообще был единственным жителем восточной части города, который заинтересовался этим настолько, чтобы посетить церковный подвал. Потому что дело было именно в этом:
Джону Рэнсому стало по-настоящему интересно.
Когда мы с Джоном подошли к лестнице, все остальные уже вышли в вестибюль. Слышно было, как они смеются над мистером Скунхейвеном. А потом я вдруг услышал голос Билла Бирна, который весил около трехсот футов и был центральным нападающим «Синих птиц». До меня донеслись слова «чертов турист», а потом кое-что похуже – придурок из восточного района, который пришел сюда пососать у Андерхилла. Все злорадно рассмеялись. Это были беспричинные, злобные выпады, но я готов был молиться Богу, чтобы Рэнсом не расслышал этих слов. Мне почему-то казалось, что хорошо одетому воспитанному юноше, который привык пожимать другим руки, вроде Джона Рэнсома, наверняка не понравится, если его посчитают извращенцем – голубым, гомиком, геем.
Но раз эти слова сумел расслышать я, их наверняка расслышал Джон, и, судя по злобному шипению за нашей спиной, отец Витале. Джон Рэнсом удивил меня, громко рассмеявшись.
– Бирн! – истошно завопил отец Витале. – Эй, Бирн! – он положил одну руку на мое правое плечо, а другую – на левое плечо Рэнсома и раздвинул нас, чтобы пройти к лестнице. Пока он протискивался между нами, собравшиеся наверху ребята открыли скрипучую дверь, ведущую на Вестри-стрит. Отец Витале, казалось, забыл о нашем присутствии. Он прошел мимо меня, даже не взглянув в мою сторону. Я сумел разглядеть огромные черные поры у него на носу. Добравшись до верхней ступеньки, он тяжело и хрипло дышал. Отец Витале распространял запах сигаретного дыма.