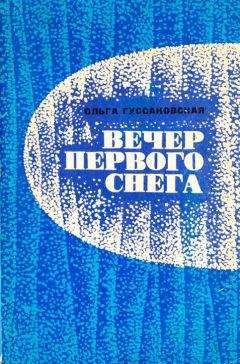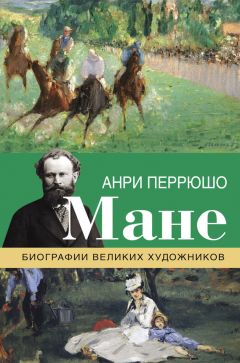— Тревожность сильная?
— Да, он не говорит, но по всем признакам, сильная. И ведь это, судя по карте, не первый курс лечения. Собственно, когда его доставили, у него в кармане куртки оказался купленный два года назад флакон клонопина с несколькими таблетками. Вряд ли они ему сильно помогли, если он не сочетал их с транквилизаторами. Нам в конце концов удалось связаться с его женой в Северной Каролине, вернее, с бывшей женой, и она еще кое-что рассказала о лечении, которое он тогда получал.
— Склонность к суициду?
— Возможно. Трудно составить твердое мнение, поскольку он молчит. Но в таком состоянии мне не хотелось бы его выписывать. Мне кажется, ему необходим стационар, где смогут разобраться, что с ним происходит, и подберут нужные дозировки. Здесь ему не нравится. Мы как будто держим в клетке медведя — молчаливого медведя.
— Так ты думаешь, я сумею его разговорить?
Это была старая шутка, и Джон с готовностью подхватил ее:
— Марлоу, ты и камень разговоришь!
— Благодарю за комплимент. И особая благодарность за то, что ты оставил меня без обеденного перерыва. Страховка у него есть?
— Какая-то есть. Социальный работник сейчас этим занимается.
— Хорошо — организуй перевод в Голденгрув. Ждем завтра к двум со всеми документами. Я его приму.
Разговор закончился, но, повесив трубку, я остался стоять, прикидывая, сумею ли выгадать пять минут для эскиза и одновременно перекусить — так я стараюсь делать в особенно плотные дни. Мне еще предстояли сеансы в час тридцать, в два, в три и в четыре, а потом в пять — рабочее совещание. И завтра двенадцатичасовая смена в Голденгрув, частной клинике, где я проработал двенадцать лет. А сейчас мне нужен был суп, салат и несколько минут покоя с карандашом в руке.
Еще я думал о том, о чем почти забыл за последние годы, хотя когда-то вспоминал очень часто. В двадцать один год, едва закончив последний курс (на котором я, кроме естественных наук, занимался историей и английским) и уже собираясь поступить в медицинскую школу Виргинского университета, я получил в подарок от родителей сумму, которая позволила мне вместе с соседом по комнате провести месяц в Италии и Греции. Тогда я впервые выбрался за пределы Штатов. Меня потрясли картины в музеях Италии, архитектура Флоренции и Сиены. На греческом острове Парос, где добывают самый лучший в мире, светящийся изнутри мрамор, я оказался в археологическом музее один.
В музее хранилась всего одна ценная скульптура, и ей был отведен целый зал. Статуя богини Ники, около пяти футов высотой, с отбитыми головой и руками, со шрамом на спине, оставшимся от обломанных крыльев, с красными пятнами на мраморе, долго пролежала в земле. Но рука мастера высекла драпировку, похожую на струи воды, омывающие тело. Одну маленькую ступню статуи приклеили на место. Я стоял в пустом зале, зарисовывал ее, и в этот момент с криком «Закрываем!» появился охранник. Я закрыл этюдник и, нисколько не думая о последствиях, шагнул к «Нике», склонился, чтобы поцеловать ее маленькую ступню.
Страж музея в ту же секунду взревел что-то, кинулся на меня и в буквальном смысле схватил за шиворот. Меня никогда не выкидывали из бара, но в тот прекрасный день охранник вышвырнул меня из музея.
Я поднял трубку, перезвонил Джону и застал его еще в кабинете.
— Какое полотно?
— Что?
— На какую картину напал твой пациент — мистер Оливер?
Джон рассмеялся.
— Знаешь, мне бы в голову не пришло спросить, но название упомянуто в полицейском протоколе. Называется «Леда». Наверное, по греческому мифу. Во всяком случае это первое, что приходит в голову. В протоколе сказано, что на ней изображена голая женщина.
— Одна из побед Зевса, — сказал я. — Он побывал у нее в облике лебедя. Кто написал?
— Ох, помилуй, я словно снова на экзамене по истории искусства, который, кстати сказать, едва не завалил. Не знаю, кто писал, и сомневаюсь, что полиция знает.
— Ладно, не буду мешать работать. Удачного дня, Джон, — сказал я, пытаясь размять шею и при этом не уронить трубку.
— И тебе того же, дружище.
У меня уже возникало желание начать этот рассказ заново с утверждения, что это — моя собственная история. И не только личная, а еще и плод воображения, наравне с фактами. У меня десять лет ушло только на то, чтобы разобраться в заметках по этому делу и в собственных мыслях: признаться, я поначалу задумал написать статью о Роберте Оливере для одного из самых уважаемых мною психиатрических журналов, в котором я уже публиковался, но разве можно писать, рискуя профессиональной репутацией? Мы живем в эпоху ток-шоу и нескромности масштабов Гаргантюа, но в нашей профессии тайна соблюдается по-прежнему строго — из осторожности, из уважения к закону и из чувства ответственности. Так лучше. Конечно, бывают случаи, когда правила нарушаются — каждый врач сталкивался с такими чрезвычайными ситуациями. Я позаботился изменить имена всех, связанных с этой историей, включая собственное, и сохранил только одно, столь распространенное и в то же время столь дорогое мне, что я не видел нужды отказываться от него.
Меня не готовили к медицинскому поприщу с детства: мои родители были священниками. Мать стала первой женщиной-священником в нашей маленькой общине. Ее возвели в сан, когда мне было одиннадцать. Мы жили в старейшем здании маленького городка в Коннектикуте, в низком, обшитом темно-бордовыми досками доме с двором, похожим на английское кладбище: туя, тисы, плакучие ивы и другие кладбищенские деревья траурно теснились вокруг сланцевой дорожки, ведущей к переднему крыльцу.
Каждый день в четверть четвертого я приходил из школы в этот дом, волоча ранец, набитый книгами и крошками, бейсбольными мячами и цветными карандашами. Мать открывала дверь. Обычно она одевалась в свитер и синюю юбку, а позднее она иногда встречала меня в темном костюме с белым стоячим воротничком — если в тот день навещала болящих, стариков, заключенных или недавно осужденных. Я был угрюмым ребенком, с плохой осанкой и хроническим ощущением, что жизнь не так хороша, как обещала быть. Мать была внимательна ко мне: строгая, прямодушная, веселая и любящая. Заметив мои рано проявившиеся способности к рисованию и лепке, она неизменно поддерживала меня, никогда не перехваливая, но никогда не позволяя усомниться в себе. Мы были на удивление разными — и отчаянно любили друг друга.
Мать умерла довольно рано, и может быть именно поэтому я с возрастом обнаруживаю в себе все большее сходство с ней. Много лет я был не просто холостяком, а одиночкой, но в конце концов справился с этим. Женщины, которых я любил (и люблю), напоминали меня самого в детстве своими неровными, сложными характерами, чем и привлекали. Рядом с ними я становился все более похожим на мать. Моя жена не стала исключением из этого правила, мы подходим друг другу.
Отчасти под влиянием любимых когда-то женщин и жены; отчасти, несомненно, потому, что профессия заставляет меня постоянно сталкиваться со скрытыми сторонами сознания, мучительно распадающегося под воздействием среды или не справляющегося с врожденными пороками, я с детства приучал себя относиться к жизни со снисходительным добродушием. Мы с жизнью уже несколько лет как стали друзьями. Эта не та волнующая дружба, по которой я тосковал ребенком, а доброжелательное перемирие, позволяющее мне каждый день с радостью возвращаться домой на Калорама-роуд. Бывают иногда мгновения — например, когда я почищу апельсин и несу его из кухни в столовую — почти мучительного довольства жизнью, возможно, вызванного его ярким чистым цветом.
Все это пришло со зрелостью. Считается, что дети умеют радоваться мелочам, однако, будучи ребенком, я мечтал только о великих свершениях то в одной, то в другой области и наконец направил все усилия на постижение биологии и химии, на поступление в медицинскую школу, а потом углубился в тончайший механизм жизни, работу нейронов, спиралей молекул и вращение атомов. Собственно, по-настоящему хорошо рисовать я научился в лаборатории, зарисовывая бесконечные формы и оттенки образцов под микроскопом, а не горы, человеческие фигуры и тарелки с плодами.
Теперь мои мечты о великом сосредоточены на пациентах: дать им возможность почувствовать простую радость при виде апельсина на кухонном столе, или удовольствие вытянуть ноги перед телевизором и посмотреть документальный фильм, или — самое большое удовольствие, какое я могу представить — вернуться с работы домой, в семейный уют, и видеть родные стены вместо жуткой череды образов, навеянных болезнью. Что касается меня, я выучился радоваться мелочам: красивому листочку, новой кисти для живописи, светящейся очищенной апельсиновой дольке и милой прелести жены, блеску в уголках ее глаз, золотистому мерцанию нежных волосков на ее руках, когда она сидит с книгой в нашей светлой гостиной.