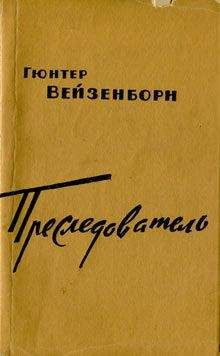По дороге домой я остановился у куста цветущего жасмина и. наслаждаясь ситуацией, вдохнул аромат цветов.
Он найден. Поиски не прекращались в течение нескольких лет. Теперь наконец начинается преследование, и преследователь — я.
Он должен знать, что я тут, что я остался в живых и в любую минуту могу встать на его пути. Он не знает, где я пребываю. На моей стороне преимущество. Для него я недосягаем. Я где-то, но где — неизвестно. Возможно, что он переедет, но я не отстану от него. Я знаю его. С этого дня он будет жить в вечном страхе. Ему слишком хорошо известно, кто я. Существуют люди, так сказать, специализировавшиеся на вражде, они страшнее случайных врагов.
Это бывшие друзья, которые лучше других знают, как нанести смертельный удар, лучше знают слабые места, которые все мы стараемся скрыть от посторонних, — все равно, что это: лжесвидетельство, донос в гестапо или труп в подвале, как это часто случается в смутные времена.
Впрочем, врагами мы стали тогда не из-за личных дел, нет, не из-за личных. Из-за «Серебряной шестерки».
Тогда я еще не знал, что убью его. Такого исхода я не предусматривал, несмотря на те тяжкие испытания, через которые мне пришлось пройти, не предусматривал, что буду сидеть ночью за рулем лимузина ради того, чтобы задавить его, уничтожить физически. И в самом деле, много надо было испытать, чтобы прийти к этому: выслеживать его тут, в большом городе, где на нас смотрят залитые огнями магазины, освещенные, как днем, витрины. И все же я мало чем отличался от первобытного человека, притаившегося в чаще девственного леса и высматривающего зоркими глазами другого человека, чтобы со всей силой всадить копье прямо ему в голый живот, да так, чтобы оно прошло насквозь и окровавленное острие вышло наружу у спинного хребта. У меня нет копья. Мое оружие — лимузин в тонну веса. Но оно не менее смертоносно.
Тогда, после того как я нашел Пауля Риделя, я отправился к рекомендованному мне адвокату М. Это был известный криминалист с круглым, как луна, лицом, на котором сквозь массивные очки холодно поблескивали голубые глаза. Рыжеватый пушок покрывал его большую голову; человек грузный, однако элегантный, подвижный, быстро вникающий в суть дела. У людей этого склада есть так называемая практическая хватка. Они знают, какими приемами и эффектами добиться успеха. Они умеют говорить много и задушевно, иной раз на языке у них мед, а иной раз они мечут громы и молнии. Они умеют, багровея от возмущения, выудить из объемистых фолиантов свода законов позабытую статью и грозно метнуть ее на судейский стол; они умеют многозначительно проскандировать выигрышный кусок своей многозначительной речи, а затем с чисто олимпийским спокойствием потребовать оправдательного приговора и тем самым сбить с толку менее смекалистых судей.
Честно говорю: я преклоняюсь перед такими людьми и перед их треклятой непогрешимостью. Да, обвинительный приговор всегда выносится другим, и за решетку попадают другие, а они тем временем готовят новый запас елея и гнева для следующего процесса.
Я сказал ему, что хочу подать в суд на одного человека.
— По какому делу?
— По политическому.
— Вот как!
— Хочу подать в суд на доносчика. Вот мое заявление в письменном виде: «Я, Даниэль Брендель, служащий и т. д…проживающий и т. д…заявляю, что пианист Пауль Ридель, проживающий и т. д…работающим в баре «Аскона» там-то и там… донес в гестапо, в отдел IVa, на сестру милосердия Еву Ланг, на токаря Вальтера Хайнике и на остальных членов группы сопротивления «Серебряная шестерка», среди прочих и на нижеподписавшегося».
Он прочитал мое заявление и поднял голову.
— Вы уже обращались в прокуратуру?
— Да, там мне сказали, что я должен представить документальные данные. Вот почему я и обращаюсь к вам.
— Как давно знаете вы этого Риделя?
— Со времени войны. Мы были тогда музыкантами. Мы играли в ресторане «Хейнес». Наш оркестр назывался «Серебряная шестерка». Пауль Ридель играл на рояле. У нас была певица — исполнительница модных песенок.
— Как ее звали?
— Ева Ланг. Нас было пять мужчин и она.
— «Шестерка» — это шесть инструментов.
— Да, пять инструментов… и Ева. Я имею в виду ее голос.
— А Пауль Ридель?
— Я уже сказал — он играл на рояле, он профессиональный пианист.
— А почему, господин Брендель, вы считаете, что он донес на вас, на вас и ваших друзей?
— Он был политически не совсем благонадежен. У него в семье были какие-то неприятности. Его отец эмигрировал из-за так называемого экономического преступления. От Пауля потребовали, чтобы он официально отрекся от отца. Как-то раз он по собственному почину рассказал, что его вызвали в гестапо и потребовали, чтобы он делами доказал свою лояльность.
— А что мог он донести на оркестр «Серебряная шестерка»?
— У нас была тайна.
М. взял из серебряной коробочки таблетку, проглотил ее, перегнулся через стол и снял свои массивные очки. Он смотрел на меня затуманенным взглядом близоруких глаз, за которым угадывалась работа весьма дальнозоркого ума. Я обратил внимание, что на таком большом лице очень мало места отведено носу, рту и глазам, они даже как-то терялись среди могучих выпуклостей: розового, гладко выбритого подбородка, огромного лба и мясистых щек. И над этой крошечной физиономией грозными балками нависали белесые брови, густые и сросшиеся.
— Какая тайна?
Я рассказал, что в самом начале войны Пелле был призван. Я рассказал, что Пелле попал в полк, оккупировавший Польшу, что там он увидел, какими зверями могут быть в наши дни люди по отношению к людям же, и, увидя, в корне изменился. За долгие ночи в госпитале он многое передумал и понял, понял, например, что люди не должны злодеяниями добиваться своей цели. Это я рассказал адвокату и прибавил, что Пелле вернулся в наш оркестр и поделился с нами своими страшными воспоминаниями. Как-то ночью он и предложил нам одно дело.
И я рассказал адвокату о том, что предложил нам Пелле, о листовках.
— Распространять листовки?
— Да.
— Польские?
— Нет, собственного производства.
— Следует ли вас так понимать, что «Серебряная шестерка» составляла и распространяла листовки?
— Именно так. По воскресеньям утром, когда мы сыгрывались, двое из нас всегда работали над размножением листовок. Мы оставляли листовки в телефонных будках, на лестницах, в трамваях и рассылали их по почте.
Он сидел, откинувшись на спинку стула, и играл очками.
— С какой целью? Вы хотели убедить людей, что войну пора кончать?
— Да.
Он усмехнулся. Затем принялся меня разглядывать с явным любопытством, словно у него на глазах совершалось превращение златокудрого херувима в скорпиона. Он закрыл серебряную коробочку и еще раз окинул меня взглядом естествоиспытателя.
— Итак: группа сопротивления или своего рода героическое безумство… чистейшее самоубийство, все равно как если бы вы с пятью пфеннигами в кармане вздумали затеять тяжбу с миллионером. Вам никогда не приходило в голову, что смешно нападать с пилочкой для ногтей на живущего в одном с вами доме систематического убийцу, который всегда начеку и вооружен автоматом?
— Дело тут не в оружии, а в людях. Просто было слишком мало готовых на это людей.
— Он позаботился, чтобы их осталось поменьше. Но всегда найдутся готовые умереть юнцы, сеющие смерть и умирающие сами, слепые фанатики какой-либо идеи.
— А когда идея побеждает, этих людей называют революционерами.
— А вы что — коммунист?
— Нет.
— А ваша «Серебряная шестерка»?
— Тоже нет. Это были люди молодые, воспитанные на идеях национал-социализма. Кроме Пелле, у нас был Мюке, сын оркестранта, в то время ему было пятнадцать лет, он играл на альте, состоял в гитлерюгенде и был зенитчиком в ПВО. Мюке в то время был прыток как заяц и отличался хладнокровием видавшего виды столичного мальца.
— Что с ним сталось?
— Исчез. Вероятно, умер.
— А кто возглавлял работу с листовками?
— Вальтер Хайнике, молодой токарь по металлу, у него была броня. Он замечательно играл на своей серебристой трубе. Его соло пользовались большим успехом. Спокойный, рассудительный, он руководил работой с листовками.
— А с ним что сталось?
— Казнен.
— И Пелле тоже?
— Исчез.
— И Ева Ланг тоже?
— Я с тех пор ничего о ней не слышал.
— Значит, в живых остались только вы и Пауль Ридель?
— Насколько я знаю — да.
— А Ридель тоже работал с вами?
— Только первое время. Его несколько раз вызывали в гестапо, после чего он, надо полагать, потерял охоту к листовкам.
М. задумался. Затем последовал основной вопрос. Я понял: он, как старый юрист, был уверен, что в ответе на этот вопрос найдет корень любого дела. Для него тут была подоплека любого преступления, любой жертвы, любой страсти. Он попросту привык в начале всякого рассказа слышать о бездонном взгляде той или иной сирены, а затем отталкиваться от этого фактора. Он принимал тривиальное явление за правило.