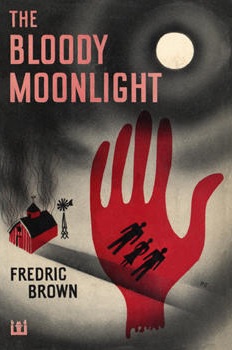— Сдаюсь, дядюшка Эм.
— Прекрасно, оставим же вульгарную математику. Ты просил меня, малыш, устроить тебя на работу в наше агентство, и теперь, помоги тебе Господи, ты уже детектив. Сделай же из этой профессии для себя образ жизни. Пусть тебе не понравится и ты уйдёшь — ничего страшного, если только ты потрудился на славу.
— Понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал я. — О’кэй, я действительно собираюсь сделать из этого образ жизни; просто у меня была парочка неудачных дней, только и всего.
— Тогда идём домой, а потом ты повидаешься с этой женщиной, с Хаберман. Затем возвращайся и…
— Ты её знаешь?
— Встречал. А что?
— Кто она?
— Она женщина, — ответил дядюшка Эм. — Так что вы поладите. Не бери в голову. Но как получишь от неё инструкции, возвращайся домой, мы их обсудим и я дам тебе несколько советов, как держаться в Тремонте и всё такое прочее.
Мы поднялись в нашу комнату, сыграли пару партий в криббидж, пока не пришло время надевать свежую рубашку и отправляться в Линкольн-Парк-Вест. Я прикинул, что явиться туда к восьми будет в самый раз.
Я, собственно, не ждал, что жилище по адресу, данному мне Беном Старлоком, окажется меблированной квартирой над пивной; мне казалось, то должен быть многоквартирный жилой дом со швейцаром и коммутатором, а потому переменил рубашку и побрился, чтобы им не взбрело в голову указать мне на вход для поставщиков. И мне стало немного не по себе, когда я увидел, что приближаюсь к частному особняку. Хорошо хоть не дворец, всего лишь дом на семь или восемь покоев, из красного кирпича и в глубине обширного участка; вокруг — масса травы и цветов да подъездная дорога, ведущая к двухместному гаражу на заднем плане. Расположение участка, однако, выгодное по меркам пригорода; да и то, что от Внутренней чикагской автодорожной петли рукой подать, увеличивало его стоимость.
Я позвонил, дверь открыла горничная. Она опередила меня, произнеся:
— Вы тот джен…льмен из сыскного бюро?
Я подтвердил, и она ввела меня в приёмную справа от вестибюля, проговорив:
— Миз Хаберман будет вниз быстро.
Я сел и, сцепив руки, некоторое время вращал большими пальцами; ничего не происходило, а потому я встал, чтобы осмотреть патефон и полки с грампластинками у дальней стены. Проигрыватель оказался роскошным «Кейпхартом» (а иных «Кейпхартов» и не бывает), записи же включали всё, что только можно — от Банни Берригана до И Эс Баха, хоть открывай магазин грампластинок не сходя с места.
Я всё ещё просматривал названия, когда кто-то прокашлялся у меня за спиной. Развернувшись, я увидал высокого и худого господина, стоящего в дверном проёме со стаканом в руке, словно бы он позировал для рекламы виски. Возрастом худой господин был где-то между тридцатью и пятьюдесятью, а готовностью — от одной до десяти порций виски; но так казалось, только пока он не отделился от дверей, после чего стало ясно, что будет и за десять.
— Музыку хотите послушать? — спросил он.
— Верно, — ответил я.
Он поставил стакан прямо на «Кейпхарт» и едва не повалился, ступив шаг в направлении полок с записями.
— Гайдн или Хачатурян? — спросил он. Пьяный-то пьяный, а слово «Хачатурян» произнёс с такой же лёгкостью, как я бы произнёс имя Джерома Керна.
— Простите мне моё дурновкусие, — ответил я, — но была, знаете, такая пластинка — Магси Спэниера, записана фирмой «Эш рекордингз»…
— Наивный человек! — ответствовал господин. — У нас имеется «Эш».
Не утруждаясь как следует схватить пальцами, он потянут пластинку с полки, она выпала у него из руки, ударилась об угол «Кейпхарта» и плашмя шлёпнулась на пол. Треснула, уж я слышал.
Худой господин вновь взял свой стакан и отпил из него.
— Может быть, вместо музыки выпьете? — спросил он.
— Нет, благодарю вас. Да и музыки тоже достаточно.
— Но поставьте же эту пластинку.
— «Кейпхарт» для меня — слишком сложная техника. Ещё ни разу не доводилось включать.
— Так выпить, всё же, не хотите? А, знаю. Долг службы не велит. Англия ждёт, что каждый исполнит свой долг. Жюстина — та тоже… Вы виделись с Жюстиной?
— Нет ещё.
— Увидитесь. Жюстина ждёт, что каждый исполнит её долг. Который час?
Я сказал ему, что восемь с четвертью.
— Нельзя заставлять герцогиню ждать, — сказал господин. — Был рад познакомиться. — Он вышел; я услыхал, как закрылась передняя дверь. Больше я не видел этого человека.
Альбом Магси Спэниера я сунул назад на полку, так и не открыв, чтобы оценить ущерб, а затем переставил стакан высокого и худого господина, всё ещё остававшийся на «Кейпхарте», на кофейный столик со стеклянной столешницей — там не беда, если стакан и оставит после себя след колечком; затем я сел и вновь принялся вращать большими пальцами.
Спустя некоторое время я вновь от скуки поднял взгляд в направлении двери; на сей раз в дверном проёме стояла женщина. Уж и не знаю, как долго она там пробыла, разглядывая меня. Я вскочил и выпалил:
— Мисс Хаберман? Я Эд Хантер из агентства Старлока.
Эта Хаберман оказалась высокой блондинкой, по всему видать — утончённой сверх всякой меры. Возраста… да любого после двадцати одного года. Глаза у неё были огромные, широко посаженные, как у газели. Не спрашивайте меня про их цвет; у меня нет привычки подмечать, какого цвета глаза у окружающих. А вот волосы были что солома, только, разумеется, солома не бывает уложена так тщательно. Фигурка — на загляденье, и какое-то платье, которое отнюдь её не скрывало.
— В радио разбираетесь? — спросила она.
— Не много. Самую капельку.
— Что такое частотная модуляция?
На этот вопрос я ответил так:
— Это система вещания, при которой частота несущих волн модулируется в соответствие с амплитудой и периодом вещательного сигнала. Для избавления от атмосферных помех.
— Вы пьёте виски с лимоном и содовой или мартини?
— Это напоминает вопрос: всё ли вы бьёте свою жену? Инструкции для оперативных сотрудников не велят пить на работе, но как человек должен отвечать на вопрос, произнесённый таким вот образом и остаться незапятнанным? Ответ: пью и то, и другое.
Слегка изогнув стан, она произнесла куда-то по ту сторону дверного проёма: «Виски с лимоном и содовой, Элси», после чего прошла, наконец, в комнату. На это определённо стоило посмотреть.
— Давно работаете на Старлока?
— Не очень, — признался я. А поскольку мне не хотелось уточнять, сколько это «не очень», я спросил: — При себе ли у вас письмо от того человека в Тремонте, где он объяснил, чего добился?
— Оно у меня в кабинете, но не важно; я смогу рассказать вам всё, что вам следует знать. Готовы? Карандаш имеется?
— Я сумею запомнить, — ответил я, — если только не слишком много технических подробностей.
— Не слишком. Его зовут Стивен Эмори — мо-ри. Живёт милях в двух от Тремонта, что в Иллинойсе, у дороги, называемой Дартаунской.
— Ферма?
— В былом. Он забросил сельские занятия — ради того, чтобы убивать время на свои изобретения — уже несколько лет тому назад, и распродал все угодья соседям. Осталось лишь парочка акров, на которых стоит дом. Ныне он вдовец… его жена была ещё жива, когда я некоторое время гостила у них ребёнком; так он и живёт там совсем один, не считая одного человека, который у него работает, Рэндольфа Барнетта.
Я записал имя — правда, мысленно — и спросил:
— В каких же делах этот Рэндольф Барнетт ему помогает? По технической части или следит за домом и этой парочкой акров?
— Понемногу и того, и другого. Технически он подкован.
— Какова же точная природа изобретения, о котором объявил Стивен Эмори?
Моя собеседница сверкнула на меня глазами.
— Послушайте… Как вас зовут?
— Хантер. Эд Хантер.
— Послушайте, Хантер, вам не следует задавать мне вопросов. Дайте мне рассказать; и если, когда я закончу, у вас будут какие-то вопросы, вот тогда и зададите.
— О’кей, — ответил я.
— Стивен Эмори — мой неполнородный дядя; он — неполнородный брат моей матери. Мои родители умерли один за другим, когда мне было девять. Меня отправили жить в семью Эмори, и я пробыла у них пять лет, до четырнадцати. Так что в то время они заменяли мне отца и мать. Потом миссис Эмори умерла, и я переехала жить к другой родне в Чикаго, до того как… Впрочем, моя дальнейшая биография к делу отношения не имеет, я лишь хочу только, чтобы вы поняли: здесь речь не идёт о надувательстве. Он не собирается…