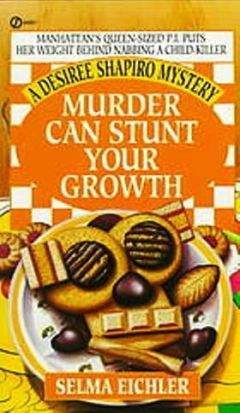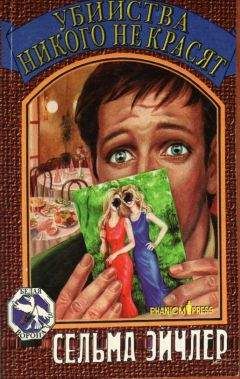Ознакомительная версия.
– Теперь мне уже не кажется, что 250 долларов – большие деньги. Всего тысяча в месяц. Если подумать, как раз в обрез.
Лиза вздохнула. Всё стоило так дорого. Она до сих пор не купила себе никакой обуви. И почти ничего из косметики.
– Прости, – сказал Дима.
Они трое снова торчали на крыше, слушали реактивный шум Ленинградского и птичий визг. Наслаждались теплым вечером и хвойным ароматом мартини. Лиза выуживала из банки маслины, Дима накалывал их на зубочистки, а Максим раскладывал по бокалам.
– А? За что «прости»? – спросила Лиза, облизнув пальцы.
– Ну, что тебя все утомили, я тоже все время спрашиваю про разные симптомы…
– Утомили? Кто «все»?
– Ну, все, кроме режиссера.
– А, да нет, ты что! При чем тут, я же о студии. Кстати, как там наши фобии?
Дима неправильно проткнул маслину, снял ее и постарался надеть еще раз, но та упорно соскальзывала.
– Что ты с ней, как с гондоном, ну ради бога, – не выдержал Макс. – Дай сюда.
Он взял маслину и съел ее.
– Фобии кончаются, – сообщил Дима, теребя мокрую зубочистку. – Вот, закончили страх червяков недавно. Ксюша говорит, мы уже явно на последнем рубеже.
– Страх всего, – сказал Максим. – Вот о чем пиши. Фобия: человек боится всего сразу.
– Это паранойя, – сказала Лиза. И растерялась. Паранойя ведь? Как там ее. Проявляется… м-м… Позорище, и только. Психолог Элиза Фрейд.
– Макс, а что у тебя на работе? – перебила она себя.
– Интересного ничего? Темы есть? – оживился Дима.
Максим устал настолько, что едва мог думать. Морщась, он поднял бокал.
– Больше в меня не стреляли, к сожалению. Лучше бы, чтобы стреляли. И пристрелили нафиг.
Макс установил холодный бокал себе на лоб.
– Вот что странно, – сказал он. – Все эти звезды. Небесной величины. Как-то вблизи они… не впечатляют.
– Крыльев нет, что ли? – спросила Лиза.
Максим открыл глаза, сглотнул и поправил бокал на лбу.
– Нет, другое. Ну вот, разбил…
– Ничего, я выброшу, – Лиза встала, расправляя примятые волосы.
– Они маленькие.
– Что?
– Трудно объяснить. Известно, что Мадонна какая-нибудь, допустим, метр шестьдесят. Но при встрече все равно думаешь: господи, это что за карлик?
– Ого! Ты видел живую Мадонну? – спросил Дима.
Макс был не в силах даже разозлиться.
– Тьфу, – он махнул рукой и грохнулся в шезлонг.
– Не обижайся на Диму, – сказала Лиза. – У него кризис тем. Ладно, я мыть руки.
Машины шуршали все реже, и на крыше почти стало тихо. В мутном небе тонули редкие звезды. Над центром города сияло молочное зарево.
– Совсем весна. У нас первые комары появились, наверное, – сказал Дима. – А здесь нет.
Максим не ответил ничего, позволив этой информации растаять в тихом шуме.
– Макс.
Ночной ветер стремительно холодел.
– Макс?
– Да? – измученно отозвался Максим.
– Скажи, – Дима подошел и уселся рядом на корточки. – Ты разбираешься в современной музыке?
– Ну.
– Ты мог бы меня научить?
– Господи, чему? – простонал Макс.
– Научить разбираться.
Максим тяжело вздохнул. Нет, отдохнуть не удастся. Ладно, к черту, завтра суббота. Если повезет – с утра не дернут. Если повезет.
– Ладно, – Макс откинулся назад и сказал. – Вначале был Джек, и у Джека был грув.
– Что? Я…
– Ничего. Короче, – Максим поскреб щеку, мучительно думая. – Современная музыка… В общем, дело было в одном клубе в окрестностях Чикаго.
...
– Следователи эти – вот кого надо лечить. Водят его и водят. Обсессивно-компульсивное расстройство налицо.
– Поттер, я не понимаю, вы что, серьезно?
– А почему нет? Шизофрения, знаете ли, может одеть любую маску.
– Надеть.
– Что?
– Одеть можно кого-нибудь. А надеть – что-либо.
– Я вас прошу, вы как этот, как текстовый редактор. Нашему брату позволительно. Мы, писатели, с языком на короткой ноге.
...
За окружной, где три прожектора обшаривают небо, раньше был многоэтажный паркинг. Отец Вернадского тогда заасфальтировал под автостоянку целое поле, а посередине возвел эту бетонную коробку. Он подарил ее Фернандесу, а тот переделал коробку в Рейв.
В стенах клуба, в черном зеркале, отражались золотые облака, и можно было представить, что клуб исчез, и уцелел только фасад, лиловый от неонового марева. Я пробирался среди машин, и мне навстречу волнами катился бас.
Я бывал здесь раньше, но тогда по Рейву слонялись рабочие, везде тарахтели отбойные молотки, а под ногами хрустела грязная клеенка. Фернандес мелькал тут и там в кроссовках и респираторе, оставляя меловые следы и не давая строителям продохнуть ни минуты. Ему всегда хотелось иметь ночной клуб, и Вернадский намерен был получить его. Фернандес показывал мне каждую мелочь: где поставит лазеры, где натянет экраны, где будет отдыхать сам. Поэтому я знал, откуда начать искать, и сразу нашел его в подвале, в обществе ледяной особы с огромной шапкой белых волос.
Фернандес увидел меня и поперхнулся коктейлем. Вытерев руки о джинсы, он перескочил через стол и оказался рядом.
– Й… кх-х… й-йоу! – Вернадский схватил меня за плечи. – Ха-а, убийца! Я думал, ты в Москве. Как жизнь?
– Привет.
Он почти не изменился: тот же румянец, похожий на боевую раскраску, те же сонные глаза, такая же нетвердая открытая улыбка.
Еще Фернандес маленький и рыжий – по-настоящему, по-школьному рыжий, хоть и без веснушек.
– А! – Вернадский повернулся, воздев растопыренные пальцы. – Ты пьешь?
Не пью.
– Нет? Почему?
Потому что боюсь.
– Боишься? Чего?
Долгая история.
– Ладно, радуй, что за повод? Или просто зашел посмотреть на место? Не-ет, всем насрать. Значит, есть повод.
Это насчет Эвридики.
– Дафак?
Сначала я понял Фернандеса не больше, чем он меня. Мы успели отвыкнуть друг от друга.
– А… ну, эта девчонка, – нашелся я наконец. – Вы недавно… встречались?
– Кто такая Эвридика? – спросили рядом.
Мы оба покосились на ледяное кукольное создание.
– Заткнись, – Вернадский рассмеялся и снова повернулся к мне. – Оу, наркоман, так вот ты кого трахаешь! Тесная планетка, да? Как тебе Эврика? Скажи, тупая, но яд?
Я не…
– Ах да, конечно, у тебя теперь гипермегалюбовь, я забыл, ты выше этого.
Это здесь не при чем.
– А, значит ты просто хер нацелил, – Фернандес поднял бокал. – Нужно мое разрешение? Разрешаю.
Дело в золотой цепочке.
– Какой цепочке? – снова подала голос его девочка.
– Заткнись, – сказал Фернандес, не глядя в ее сторону. Он сбавил тон. – Слушай. Давай тише, видишь, ме-ме-ме поднимается.
Хорошо.
– Так о чем ты?
Цепочка.
– Цепочка – что за цепочка?
Зачем понадобилось красть ее золотую цепочку?
– Ее золотую цепочку? – Вернадский вскинул руки, едва не расплескав весь коктейль.
Прощаясь с Эвридикой, Фернандес незаметно снял цепочку и вернул ее себе в карман.
– Это моя цепочка, чувак, – он снова вернулся к полушепоту. – Это я подарил ее.
На вопрос Эврики, что в кармане, он сказал:
– «Не порть себе впечатление», – подтвердил Вернадский, отряхивая джинсы. – Блядь! У меня вся штанина в мороженом! ВСЯ штанина!
Мне непонятно, зачем нужно было это делать.
Фернандес поднял глаза от коленей.
– А? Мофо, ты в загоне, что ли? Ты думаешь, я каждой дырке дарю отдельную цепочку? Чува-ак… – он покачал головой и снова принялся отряхивать штанины. – Нет, я при деньгах, но блин, меня вся эта свора раздела бы при твоем подходе.
Мне сложно объяснить. Дело в том, что Эвридика – другой случай, она глупая, но добрая. Она близко к сердцу принимает такие вещи. Цепочки, внимание. И дело не в этой дурацкой цепочке, я просто хочу, чтобы он согласился: Эврика не шлюха.
– Оу, оу, стой! Стоп, стоп, стоп, – Вернадский расправил штанины и выпрямился. – Давай не будем шовинистами, правильно? Давай не трогать женщин и говорить в смысле чисто общечеловеческом.
Я молча почесал за ухом.
– Так вот, для нас обоих не секрет, – сказал Вернадский, снова взяв недопитый бокал. – Что люди делятся на настоящих , которых очень мало, и на стадо. Так?
Я промолчал.
– Мы знаем, как отличать настоящих, так? Это сразу видно, глаза там, слова, общение… Мы знаем, что мы люди, так?
Я стоял молча, слушая мычание танцпола, бьющееся в портьеры.
– Смотри, – Фернандес подошел к своей кукольной блондинке. – Вот это существо не напоминает тебе овцу?
Девушка покосилась на Вернадского, изобразила губами слово «дурак» и снова устремила холодные глаза в пространство.
– Животные! – объявил Фернандес, подняв указательный палец. – Красивое тело, простой мозг, вверху одна дырка, снизу две.
Он шлепнул девушку по тонкой руке.
– Ноль поэзии, одна физиология. Простые телесные ценности. Верно? Бе-е-е! – сказал Вернадский, нагнувшись к ее точеному ушку.
Ознакомительная версия.