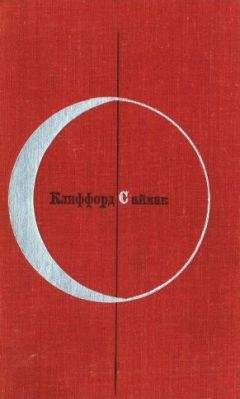— Что же это за мир, в котором мы живем? Теперь убивают хороших.
— Вам нужно просто следить за тем, кого вы к себе впускаете. Соблюдать элементарную осторожность.
Розенберг протянул Нильсу стопку псалтырей.
— Я не боюсь, мне ничего не грозит.
Он рассмеялся своим мыслям и повторил:
— Мне совсем не грозит быть принятым за хорошего человека. Можете не сомневаться. Я грешник.
— Мы и сами не думаем, что вам что-то грозит, но все-таки.
— Однажды один человек пришел к Лютеру. Я имею в виду, к тому самому Лютеру.
— Тому, кто сделал нас протестантами?
— Да, к нему. — Розенберг снова рассмеялся и посмотрел на Нильса так, как будто тот был ребенком. — Он сказал Лютеру: «Меня кое-что заботит. Я очень много думал и понял — знаешь что? Я никогда не грешил. Я никогда не делал то, чего нельзя». Лютер внимательно посмотрел на него. Вы можете догадаться, что он ответил?
Нильс чувствовал себя на занятии по катехизации, и это было не самое приятное чувство.
— Что ему повезло?
Розенберг триумфально покачал головой.
— Что ему нужно начать грешить! Потому что Бог должен спасти грешников. Грешников, а не тех, кто уже спасен.
Орган замолчал на минутку. Пара туристов вошла в церковь, осматриваясь вокруг с любопытством и сознанием выполненного долга. Розенберг явно собирался рассказать Нильсу что-то еще, но выжидал, пока улетучится органное эхо.
— У евреев есть миф о праведниках. Вы о нем не слыхали?
— Я никогда особенно не разбирался в религии. — Он тут же понял, как это прозвучало, и прибавил, извиняясь: — И это я говорю священнику…
Розенберг продолжал, никак не реагируя на слова Нильса, а будто бы читая с кафедры воскресную проповедь:
— Миф о том, что тридцать шесть праведников обеспечивают выживание всего человечества.
— Тридцать шесть. Почему именно тридцать шесть?
— У еврейских букв есть числовое значение. Буквы в слове «жизнь» в сумме дают восемнадцать. Поэтому восемнадцать — это священное число.
— Восемнадцать плюс восемнадцать равно тридцать шесть. То есть это дважды священно?
— Для человека, никогда особенно не разбиравшегося в религии, вы быстро соображаете.
Нильс улыбнулся, чувствуя детскую гордость.
— И как об этом узнали?
— О чем? Что вы имеете в виду?
— О том, что Бог послал на землю этих тридцать шесть человек? — Нильс подавил недоверчивую улыбку, но Розенберг успел заметить недоверие в его глазах.
— Он рассказал об этом Моисею.
Нильс рассматривал большие картины. Ангелы и демоны. Мертвые, карабкающиеся из могил. Сын, прибитый к деревянному кресту. Нильс много чего повидал за двадцать лет работы в полиции, пожалуй, даже слишком много. Он обшарил весь Копенгаген в поисках доказательств и мотивов преступлений, обыскал каждый темный закоулок человеческого греха и нашел там вещи, при одной мысли о которых его тошнило. Но он никогда не встречал даже намека на то, что существует какая-то жизнь после смерти.
— Синай. Моисей взошел на гору и принял заповеди. Мы продолжаем жить по ним. Более того, мы даже положили их в основу законодательства. Не убий.
— Ну, это никогда никому не мешало.
Розенберг пожал плечами и продолжил:
— Возлюби ближнего своего. Не укради. Вы же знаете эти десять заповедей.
— Знаю, конечно.
— И ваша работа, строго говоря, состоит в том, чтобы следить за исполнением Божьих заповедей. Так что не исключено, что вы задействованы в реализации общего плана в гораздо большей степени, чем вам кажется, — Розенберг дразняще улыбнулся Нильсу, и тот не мог не рассмеяться. Розенберг, конечно, талантливый и опытный собеседник, сказывается его многолетняя привычка нападать на неверующих.
— Ну, возможно, — ответил Нильс и продолжил: — И что Бог сказал Моисею?
— Что в каждом поколении на земле будут жить тридцать шесть хороших, справедливых людей, чтобы заботиться о человечестве.
— И они должны обязательно заниматься миссионерством?
— Нет. Потому что они сами об этом не знают.
— То есть хорошие не знают о том, что они хорошие?
— Праведники не знают о том, что они праведники. Только Богу это известно. Но они присматривают за нами. — Розенберг сделал паузу. — Как я уже сказал, это важное понятие в иудаизме. Если вы хотите поговорить с экспертом, вам нужно в синагогу на Кристальгаде.
Нильс взглянул на часы и подумал о Катрине, таблетках и предстоящем авиарейсе.
— Неужели это так уж невероятно? — продолжал священник. — Ведь почти все признают, что в мире существует зло. Плохие люди. Гитлер. Сталин. Почему же не признать противоположное? Тридцать шесть человек, которые находятся на другой чаше весов. Сколько капель доброты нужно для того, чтобы удерживать зло в узде? Может быть, всего тридцать шесть?
Наступила тишина. Розенберг взял у Нильса псалтыри и вернул их на место — на полку у входа. Нильс протянул Розенбергу руку. Это был первый человек из его списка, которому ему захотелось пожать руку. Может быть, это обстановка божественности успела так на него повлиять.
— Я уже сказал, что вам, думаю, стоит просто соблюдать обычную осторожность.
Розенберг открыл Нильсу дверь. За ней были люди, рождественская музыка, звон колокольчиков, машины, шум, яростный, хаотичный мир. Нильс смотрел ему в глаза и гадал, о чем же священник солгал там, в подвале.
— Генри Киссинджер в своей речи на похоронах Джеральда Форда назвал его одним из тридцати шести праведников. Некоторые считали, что Оскар Шиндлер был одним из них. А как насчет Ганди? Черчилля?
— Черчилль? Разве можно посылать людей на войну и оставаться при этом хорошим?
Розенберг задумался.
— Бывают ситуации, когда правильно делать то, чего нельзя. Но тогда человек перестает быть праведником. В этом суть христианства: мы можем ужиться друг с другом только тогда, когда мы признаем, что грех — это основополагающее условие жизни.
Нильс рассматривал церковный пол.
— Ну, теперь, похоже, я совсем вас напугал. У нас, священников, это всегда неплохо получается. — Он добродушно рассмеялся.
— У меня есть ваш номер, — сказал Нильс. — Я увижу, что это вы, если вы позвоните. Обещайте мне набрать мой номер, если что-то случится.
Нильс направился обратно к машине, но задержался у подвального окна. Что-то здесь не так. Подвальное окно. Наркоман, татуировка, ложь Розенберга. Но с другой стороны, столь многое в жизни бывает не так, подумал он. И не всегда можно проследить взаимосвязь. Логика хромает. Человечество лживо — это извечное полицейское проклятие. Задача состоит в том, чтобы отыскать ложь, которая покрывает не просто грех, но преступление.
Больница Фатебенефрателли, Венеция
Эта монахиня была родом с Филиппин, сестра Магдалина из Ордена Святого сердца. Томмасо чувствовал к ней симпатию, ему казалось, что ее красивое улыбающееся лицо должно примирять неизлечимо больных с тем, что им скоро придется покинуть этот мир. Недавно отреставрированный хоспис располагался в северной части старого еврейского квартала, у Томмасо уходило всего несколько минут на то, чтобы добраться туда из Гетто. Район продолжал называться Гетто, несмотря на то, что сегодня это слово получило совсем другое значение. Однако корнями оно уходило именно сюда: getto по-итальянски значит «плавильня». Несколько сотен лет назад в этой части города находилась кузница, потом здесь поселили евреев, и в какой-то момент они оказались взаперти: ворота закрыли, чтобы преградить им путь в остальную Венецию. Место стало известно как Гетто и дало название многим другим районам по всему миру, объединенным одним общим признаком: выбраться из них было невозможно.
Магдалина шепотом окликнула вошедшего в хоспис Томмасо:
— Господин Барбара?
Здесь царило особое спокойствие, и никто никогда не возвышал голоса, как будто пациентов готовили к той вечной немоте, частью которой им скоро предстояло стать.
— Ваша мама очень мучилась сегодня ночью. Я просидела рядом с ней до утра.
Она подняла на него красивые глаза. Он и сам понимал, что это слишком примитивная мысль, но все-таки она не давала ему покоя: зачем Магдалине, при ее-то красоте, понадобилось стать монахиней?
— У вас золотое сердце, сестра Магдалина. Моей маме повезло, что вы о ней заботитесь.
— Ей главным образом повезло иметь такого сына, как вы.
Томмасо нисколько не сомневался в том, что она говорит искренне и действительно так считает, и все-таки ее слова тут же пробудили в нем угрызения совести.
— Теперь у меня будет больше времени… — Он колебался, думая, стоит ли рассказывать ей, почему… в конце концов, зачем ей об этом знать? — Меня отстранили от работы.
Она взяла его за руку.