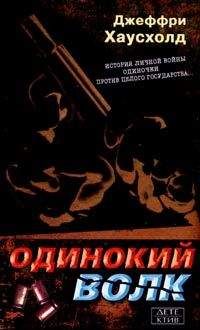Наконец капустный владелец отправился домой пить свой жиденький чай, на землю опустились сумерки, и я поднялся. Выпил четверть фляжки виски и направился через дорогу на восток. Идти в потемках без дороги — мука из мук. Я ощупью пробирался вдоль канав и изгородей, приходилось обходить три стороны поля, прежде чем удавалось отыскать выход из него, а когда его находил, то он выводил меня в деревню или обратно на то же капустное поле.
После часа или двух блуждания по этому лабиринту я пошел напрямик, перелезая через ограждения и вброд переходя канавы. Упрямо шел и шел, не разбирая дороги. Промок насквозь выше пояса, за мной тянулся след, как от бегемота; куда меня вел путь, я не знал, мне было все равно. Наконец я выбрался на тропу, или лучше назвать ее дорожкой (она имела какое-то покрытие и низкую изгородь). Большую часть времени я провел на ней, изображая кучу навоза, поскольку по дорожке время от времени кто-то проходил. В среднем встречался один прохожий на двести ярдов. Вечерний досуг в этой глухомани проводился в переходах из одного паба в другой и обратно. Если у кого не было денег на пиво, он ложился с девкой под плащ. Обычно я с пониманием относился к столь безыскусному претворению продления рода человеческого, но лежащие по обочинам пары подавали человеческий голос, когда я едва не наступал на них. В моих родных краях это совершалось интереснее и более по-язычески. Если шел дождь, то любовью мы занимались в церковном амбаре, где хранилась десятина, или на паперти, или под лестницей заднего хода деревенского женского собрания, и нам было безразлично, если кто-то видел нас при этом.
Мне пришлось бы провести еще один день на капустных полях, если бы не удалось перебраться чрез железную дорогу, по которой я двигался в сторону Айеовил, тихо ступая по шпалам. По дороге домой прошли два железнодорожника, но стук их ботинок по гравию меня заблаговременно предупредил об их приближении. Я спрятался от них, а потом пропустил поезд, лежа внизу насыпи.
На горизонте тьма стала гуще, и я понял, что подхожу городку маленьких домиков Айеовил. Было уже два часа ночи, и все проселки опустели. Я свернул на юг в сторону холмов. Когда поздний осенний рассвет превратил ночь в туманную мглу, я почувствовал под ногами траву и увидел отблеск мела или песчаника, где человек или животное скользили по склону.
Я напился из оправленного в трубу родника, где поят скотину, и укрылся на небольшой вересковой пустоши с кустами можжевельника. Тут я спугнул старого самца-лисицу и напугался сам, когда немного погодя задумался над этим инцидентом. Льщу себе, что могу приблизиться к своей добыче, как цивилизованный охотник или — они это еще лучше делают — дикари; сказать по правде, я старался научиться этому, как только в шесть лет мне подарили первое духовое ружье с наказом, которому я всегда следовал и нарушил только единожды: никогда не направлять ружье на человека. И все же мне не стоило упрекать себя задним числом, что я на три ярда приблизился к лису, даже если бы я знал о его присутствии и намеренно стал бы его преследовать. Как это ни странно, меня несколько удручало, что я стал двигаться с инстинктивной осторожностью. Я уже стал выискивать в себе признаки деградации — мне болезненно хотелось уверенности, что я не утрачиваю человеческих свойств.
Для ночевки я выбрал южный склон, где низкорослый вереск постепенно вытеснял траву, протягивая черные ростки под зеленым покровом. Солнце обещало мягкое тепло, и я разложил свое пальто и кожаную куртку сушиться. Быстро задремал, просыпаясь, когда птица садилась на можжевельник или кролик прыгал через дорожку, но тут же с легкостью снова погружался в дрему.
Вскоре после полудня я проснулся окончательно. Перед глазами ничего не было такого, что бы подтверждало полную ясность сознания, и я заглянул за можжевельник. С подветренной стороны по гривке холма шли двое. Один был сержант из дорсетских констеблей, другой, судя по тому, что нес старомодное курковое ружье, — мелкий фермер. Они прошли мимо меня в десяти футах; полицейский так тяжело ступал, будто пытался нащупать под мягкой травой этого податливого и упругого грунта твердую мостовую, а фермер едва тащился на полусогнутых ногах, как ходят люди, не привыкши к ходьбе по ровной местности.
Решил последовать за этой торжественно шествующей парой и послушать, о чем они толкуют. Говорили обо мне, поскольку фермер произнес слова, апропо ровно ничего не значащие: «Он все время был в Замерсете, так я думаю», — последнее и решающее заключение, имевшее смысл примерно такой: считаю, что он уехал в Южную Америку и там помер.
До чего же хороши эти меловые холмы, чтобы в них прятаться. Несколько человек тут не могут пройти незамеченными, а один — вполне может. В долинах Южной Англии, которые с вершин холмов выглядят лесистой местностью, заборы и живые изгороди заставляют беглеца идти там, где ходят все, и рано или поздно он бывает вынужден, как это случилось со мной, ложиться пластом и молить землю спрятать его. А на голых, так они выглядят — голыми — меловых холмах полно доисторических штолен и траншей, заросших деревьями бугорков, зарослей можжевельника, а также выходов звериных нор, одиноких амбаров и чащ терна. А живые изгороди, где они есть, — это или миниатюрные лесочки, или в них множество проломов.
Скрытно идти за собеседниками было нетрудно. Шли они не спеша, поминутно останавливались, чтобы перекинуться парой слов. Движение не прерывало весомую значимость их разговора. Наконец они остановились у ворот, облокотились на ограду и стали обозревать двенадцать акров, отливающих сталью кормовой свеклы, спускающихся к золотистым краям долины. Я подполз к ним по канаве, так что их разговор стал мне слышен.
Сержант закончил длительное бормотание, в котором громко и враждебно звучало одно слово — «иностранцы».
— Ух, эти негодяи! — сказал фермер.
Сержант рассматривал вопрос с точки зрения закона, обращая свои размышления к фермеру и ко мне. Он был государственным служащим в мундире, а потому, наверное, был предрасположен к некоторой дипломатии.
— Ну, я бы так не сказал. Нет, иностранцы все же, я скажу, но не знаю, стоило ли делать все так...
Их разговор продолжался, но слышно ничего не было, потому что говорили без возбуждения, не повышая голоса. Фермер, похоже, не соглашался, что иностранцы вообще могли бы появиться в Дорсете. Утверждение, что они все-таки проникают, бросало на страну нехорошую тень.
— Я говорю, тут был иностранец, спрашивал их, — сказал сержант. — Я знаю, сам инспектор говорил, он сказал... — звук его голоса отнесло в сторону.
— Миссис Мэйдун говорит, это был настоящий агент, — усмехнулся фермер.
Сержант тоже вежливо хохотнул, но потом показал задетое достоинство.
— Она сказала мне, что не может его припомнить, вот что она говорит! И не спрашивайте меня, говорит, будто в грязную пивную быком ввалился, говорит.
Снова засмеялись, смех перешел в хохот во все горло, когда стали вспоминать пышную миссис Мэйдун, щекоча друг друга в не столь восхитительно облаченные бока. Миссис Мэйдун была ненавязчиво услужливой вдовушкой, владевшей гостиницей в Биминстере, где я обедал. Доктора, говорила она, никогда не видели за пределами лондонской больницы такой печени, какая была у мистера Мэйдуна.
Мои приятели зашагали по холмам дальше, а я остался в канаве переваривать обрывки новостей. Они меня встревожили, но не удивили. Понятное дело, мои враги добрались-таки до информации Скотланд-Ярда относительно моего местонахождения. Если не милый Святой Георгий, тогда один из их корреспондентов в Лондоне. Информация не была секретной.
В гуще можжевельника я обрел свою форму. Полуденное солнце жгло по-летнему, и в своей охоте за теми двоими я слегка упарился. В сумерки я доел остаток своей провизии и снова напился у родника. К счастью, я не прикасался к ополовиненной фляжке виски. Ее эффекта — легкой, но достаточно наглядной самоуверенности — я опасался: сейчас, как никогда, мне нужно быть предельно осторожным, если я хочу без опасений вернуться в свое логово и спокойно там дожидаться наступления зимы.
Я поднялся вверх и двинулся дорогой, идущей по вершинам холмов, на юг до самого Эггардонского холма. Там я заблудился. На небе ни звездочки, и, зная, что я на Эггардоне, не мог понять, с какой же стороны света я на него выхожу; дороги, старые и новые, грунтовые и покрытые щебнем, пересекались и извивались, будто линии на товарной станции. Наконец, нашел ров, выходящий из моего лагеря, и чтобы удостовериться в правильности определения своего местоположения, я обошел половину огромного котлована, пока далеко внизу не показались огни города, который должен быть Бридпортом.
Пустота уходила в бесконечность, темнота простиралась вдаль, но была бесформенной. Юго-западный ветер завихрился над травяным покровом, тройная линия земляных бастионов нависла надо мной, и, словно морские волны, они бесшумно откатывались в ночной мрак. Как бы мне хотелось оказаться на восточных склонах Анд с безлюдным лесным континентом у моих ног! Вот где я почувствовал бы себя действительно одиноким, в полной безопасности за неприступными для человека кордонами.