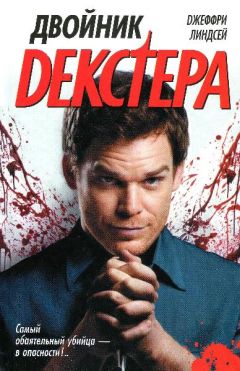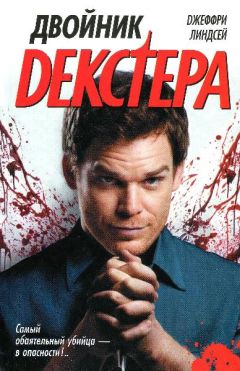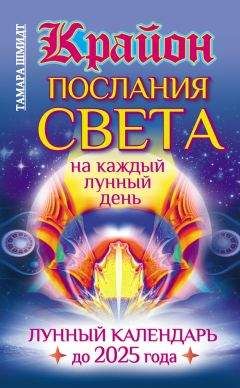Легкий озноб пробежал по спине. Зачем я это делаю?
Мгновенным ответом было, конечно же, что я ничего вообще не делаю. Все делает мой дорогой друг из темноты заднего сиденья. Я здесь просто потому, что у меня есть водительские права. Но мы пришли к соглашению, он и я. Мы достигли тщательно сбалансированного режима сосуществования, этакого варианта совместной жизни — по рецепту Гарри. А сейчас он буйно рвется за пределы аккуратных и прекрасных линий, которые мелом нарисовал Гарри. Почему? Злость? Неужели вторжение в мой дом настолько оскорбительно, что может побудить его к ответному удару, в отместку?
Я не чувствую, чтобы он злился; как всегда, Темный Пассажир кажется хладнокровным, спокойным и приятно удивленным, готовым к охоте. И я тоже не злюсь. Я чувствую себя… полупьяным, как змей в вышине, балансирующим в эйфории на лезвии ножа, вздрагивая внутренним трепетом, который удивительно похож на то, что я называю эмоциями. И легкомыслие, возникшее от всего этого, и привело меня в опасное, нечистое, незапланированное место, чтобы я сделал под воздействием момента то, что всегда так тщательно планирую. Но, даже понимая все, я очень хочу это сделать.
Должен.
Ну, хорошо. Однако я не обязан делать это раздетым. Я осмотрелся. В дальнем конце помещения штабелями лежали обернутые полиэтиленовой пленкой упаковки керамической плитки. Несколько минут работы — и я сделал себе из этой пленки фартук и странного вида прозрачную маску: вырезал нос, рот и глаза так, чтобы можно было смотреть и дышать. Плотно затянул импровизированные завязки на затылке так, что мое лицо превратилось в нечто неузнаваемое. Идеальная анонимность. Выглядит туповато, конечно, но я привык охотиться в маске. И, если не брать в расчет мое невротическое стремление делать все правильно, я таким образом просто уменьшал число возможных осложнений. Это меня слегка расслабляет, так что ничего тут плохого нет. Я достал из сумки перчатки, натянул их. Вот я и готов.
Я нашел Яворски на втором этаже. У его ног поблескивала груда электрических проводов. Я стоял в тени лестничной клетки и наблюдал, как он вытаскивает провода из изоляции. С помощью клейкой ленты я развесил фотографии, которые принес с собой. Милые маленькие фотки сбежавших девчонок в вызывающих и очень откровенных позах. Я приклеил их к бетонным стенам, так, чтобы Яворски обязательно заметил их, выходя на лестницу.
Я снова взглянул в сторону Яворски. Он вытянул еще футов двадцать провода, но тот вдруг застрял и больше не хотел вытягиваться. Яворски крякнул, потом достал из заднего кармана большие кусачки и перекусил провод. Поднял провод, лежащий под ногами, и стал скручивать, наматывая его на локоть. Потом направился к лестнице — в мою сторону.
Я отступил в темноту лестничной клетки и затаился.
Яворски даже не старался не шуметь. Он не ожидал, что ему может что-либо помешать, и, конечно же, он не мог ждать меня. Я прислушался к его шагам и легкому царапанью провода, который тащился за ним. Ближе…
Яворски появился в дверном проеме и перешагнул через порог, не замечая меня. А потом увидел картинки.
— Уф, — произнес он так, как будто получил хороший удар в живот.
Яворский уставился на них, с отвисшей челюстью, не в состоянии двинуться с места; и тут сзади появился я с ножом к горлу.
— Не двигаться и не шуметь, — сказали мы.
— Э, послушай… — произнес он.
Я слегка повернул кулак с ножом так, что его кончик слегка воткнулся в кожу под подбородком. Яворски взвизгнул, когда оттуда брызнула такая огорчительно-ужасная и тоненькая струйка крови. Так напрасно: ну почему люди не хотят слушаться?
— Я же сказал — ни звука, — снова сказали мы, и он успокоился.
Теперь единственными звуками были потрескивание клейкой ленты, дыхание Яворски и тихий смех Темного Пассажира. Я заклеил ему рот, куском драгоценного вахтерского медного провода связал руки и подтащил к другому штабелю плитки, также упакованному в полиэтилен. Еще через несколько секунд он уже был скручен, как сноп, и привязан к импровизированному столу.
— Поговорим, — сказали мы мягким и холодным голосом Пассажира.
Он не знал, разрешено ли ему разговаривать, а клейкая лента так или иначе не давала этого делать, поэтому он молчал.
— Давай поговорим о девчонках, — сказали мы, отклеивая ленту со рта.
— Я-а… о-о чем эта-а ты? — произнес он. Звучало не очень убедительно.
— Думаю, ты знаешь о чем, — сказали мы.
— Ну… не-е, — ответил он.
— Ну… да, — сказали мы.
Возможно, я начал говорить слишком мудрено. Время заканчивалось, да и весь вечер заканчивался. А он вдруг осмелел. Посмотрел в мое сияющее лицо.
— Ты что, коп? — спросил он.
— Нет, — ответили мы, и я срезал ему левое ухо.
Оно было ближе. Нож у меня острый, и какое-то мгновение он не мог поверить, что это происходило с ним, что он навеки и навсегда теперь останется без левого уха. Поэтому, чтобы он поверил, я уронил ухо ему на грудь. Глаза его стали огромными, легкие заполнились, приготовившись к крику, но я засунул ему в рот моток клейкой ленты как раз перед тем, как он это сделал.
— Ни то ни другое, — ответили мы. — Случаются вещи и похуже.
И, конечно же, определенно они случаются, только пока ему об этом знать рано.
— Девчонки? — спросили мы мягко-холодно, подождали всего мгновение, глядя в глаза, чтобы убедиться, что он не будет кричать, а потом вынули кляп.
— Иисусе, — прохрипел он. — Мое ухо…
— У тебя есть еще одно, такое же хорошее, — ответили мы. — Расскажи нам о девочках на этих фотографиях.
— Нам? Что ты имеешь в виду? Иисусе, больно же! — захныкал он.
До некоторых просто не доходит. Я снова засунул пленку ему в рот и приступил к работе.
Я почти увлекся: в таких условиях работа спорилась. Сердце гнало как сумасшедшее, и мне приходилось сильно напрягаться, чтобы рука не дрожала. Но я продолжал работу, исследуя, ища нечто, что всякий раз ускользало от меня. Это захватывало и в то же время ужасно разочаровывало. Внутренний гнет нарастал, подкатывался к ушам, с криком пытался вырваться — но нет, освобождению не быть. Только это нарастающее давление, чувство чего-то прекрасного, недоступного чувствам, в ожидании, пока я его не найду и не брошусь в него целиком. Однако я так ничего и не находил, и ни один из моих старых стандартов не нес радости. Что делать? В растерянности я надрезал вену, и отвратительная лужа крови сформировалась на пленке рядом с вахтером. Я на секунду остановился в поисках ответа, но так ничего и не придумал. Я посмотрел в сторону — через оконный проем. Я смотрел, забывая дышать.
Над водой можно было видеть луну. По какой-то причине я не могу объяснить, что мне показалось таким правильным, таким необходимым: просто смотреть на луну поверх воды, смотреть, как она приглушенно мерцает — просто само совершенство. Меня качнуло, я ударился о наш импровизированный стол и пришел в себя. Но луна… или то была вода?
Так близко… Я так близок к чему-то, я почти чувствую его запах, но что же это? Дрожь пробежала по телу, и это тоже правильно, настоящая лихорадка охватила меня, даже зубы застучали. Почему? Что это все означает? Что-то находится рядом, что-то очень важное, какая-то всепобеждающая чистота и ясность, оседлавшая луну и отражающаяся в воде и на кончике моего ножа для разделки филе, а я не могу это поймать.
Я снова посмотрел на вахтера. Дико раздражает, как он тут лежит, весь в импровизированных надрезах и ненужных пятнах крови. Впрочем, трудно долго злиться, когда в тебе пульсирует такая дивная флоридская луна, обдувает тропический бриз, чудные ночные звуки шуршащей ленты соединяются с паническим дыханием. Мне почти хотелось смеяться. Некоторые предпочитают умирать за какие-нибудь совершенно невообразимые вещи; этот жуткий слизняк умрет из-за куска медного провода. А его выражение лица: столько страдания, недоумения и отчаянья. Было бы даже смешно, если бы я не был так расстроен.
И он правда заслуживает, чтобы я приложил больше усилий: в конце концов не его вина, что я оказался не в привычной своей отменной форме. Он даже недостаточно отвратителен, чтобы попасть в верхнюю часть моего программного списка. Всего-навсего отталкивающий мелкий бездельник, который убивает детей ради денег и кайфа, да и убил всего четверых или пятерых, насколько мне было известно. Мне почти стало жаль его. Ему никогда не попасть в высшую лигу.
Ну да ладно. Пора работать. Я вернулся к Яворски. Он уже не бился так сильно, но все же был слишком живым для обычных методов. Конечно, сегодня вечером со мной нет моих наиболее профессиональных игрушек и процедура должна была показаться Яворски слишком грубой. Но как опытный актер, он не жаловался. Я даже почувствовал волну привязанности и преодолел свою торопливость, уделив больше внимания и времени на качество обработки его рук. Он ответил настоящим всплеском энтузиазма, и я поплыл, тут же потерявшись в дебрях своих изысканий.