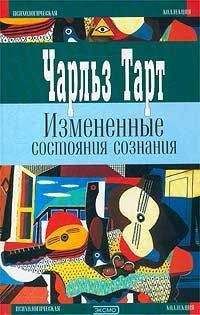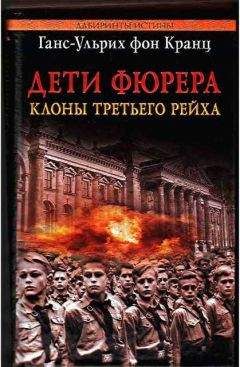Эрика раздавила сигарету о пепельницу, которая и так была полна окурков.
«Вероятно, здесь она подыхает от скуки, пока ее муж на работе», — подумал Франк.
— У Николь не было никаких ценных вещей. Вы же видели обстановку дома: все было старым и вышедшим из моды. Кому все это нужно? Наличные деньги, которые Николь хранила в спальне, не были украдены. Я почти уверена, что у нее не было дорогих украшений.
— Мы имеем в виду не только ценные вещи. Преступник мог завладеть каким-нибудь документом, письмом, на первый взгляд безобидным предметом, который имел для мадам Браше особенный смысл.
Эрика Фабр покачала головой.
— Мы с Николь были в близких отношениях, но я не знаю, что она хранила в ящиках. Она была очень умной женщиной, никогда не теряла головы. Разумеется, у нее были небольшие провалы в памяти. Я прекрасно знаю, что она не помнила моего номера телефона, хотя и звонила мне два-три раза в неделю. Но всеми счетами она занималась сама и не любила, когда ей помогали.
— Понимаю, — разочарованно протянул Франк. — Тем не менее мы принесли фотографии, сделанные на месте преступления сразу после того, как было обнаружено тело. Нам очень жаль, что мы вынуждены подвергать вас столь тяжелому испытанию, но это очень важно.
Лейтенант Лонэ вытащил из своей сумки штук двадцать фотографий формата А4, очень четкого разрешения.
— Не волнуйтесь, здесь нет фотографий кладовки, где было найдено тело мадам Браше. Это снимки разных частей дома. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на них внимательно. Скажите, если заметите отсутствие какого-либо предмета или если какая-нибудь деталь вас насторожит.
Эрика взяла в руки пачку фотографий. Казалось, она немного растерялась, осознав, какую тяжелую задачу поставил перед ней жандарм.
— Я постараюсь.
— Спасибо.
В течение нескольких минут молодая женщина внимательно рассматривала снимки. Но чем сильнее она сосредотачивалась, тем заметнее на ее лице проступала растерянность.
— Мне очень жаль, — пробормотала Эрика. — Но у меня всегда была плохая зрительная память. Если я смогла помочь вам с клейкой лентой, то только потому, что уже пользовалась ею, а затем снова убрала в ящик. Но сейчас у меня в голове все перепуталось.
— Не волнуйтесь, — приветливым тоном откликнулся Франк. — Мы не спешим.
Лейтенант повернулся к коллеге, которая, помрачнев, погрузилась в свои мысли. Черт возьми, ведь обычно это ей без труда удавалось успокоить свидетелей. Он же никогда не преуспевал в этом деле.
— Прошу прощения, мадам Фабр, — вмешалась Эмили. — Вы говорили, что мадам Браше часто забывала о пустяках, например не помнила телефонных номеров.
— Да, это так.
— У вашей соседки был старый телефонный аппарат, с диском. И у него не было функции «память». Значит, мадам Браше куда-то записывала телефонные номера, например, в записную книжку.
— Да, разумеется, у нее была записная книжка. Такая старая, на спирали, с металлическими уголками и защелкой. Впрочем, она никогда не закрывалась. Я неоднократно говорила себе, что надо подарить Николь другую записную книжку.
Эмили схватила фотографии и быстро просмотрела их.
— На месте преступления мы не нашли записной книжки, — уверенно сказала она.
— Ничего не понимаю, — прошептала Эрика Фабр, растерянно глядя на жандармов. — Что это значит?
Конечно, Франку Лонэ не стоило делать столь важный вывод в присутствии свидетеля, но он не сумел удержаться и ответил молодой женщине:
— Это значит, что имя убийцы Николь Браше, возможно, было записано в этой книжке…
После нашей римской эскапады я вернулся в столицу с огромным облегчением. Жизель была просто счастлива после поездки и говорила, что я «забавлялся, как сумасшедший».
Учебный год выходил на финишную прямую, и это позволило мне с головой погрузиться в работу и немного оправиться от депрессии. У профессии преподавателя, заставляющей вас нести трудовую повинность и играть на публику, есть одно немаловажное преимущество: она отвлекает от личных проблем, пусть даже на короткое время. До конкурсных экзаменов в Высшую нормальную школу оставалось меньше двух месяцев. Мы уже прошли часть программы, отведенную на изучение эстетики, однако совсем не касались итальянского неореализма, художественного течения, выбранного на этот год. Я полностью посвятил себя работе, но «Германия, год нулевой» Росселлини вновь вернул меня, против моей воли, к страданиям военного периода.
Один раз — это еще не привычка. В воскресенье мне позвонила Элоиза. Она сообщила, что ее «приглашение» остается в силе и что, если я согласен, мы можем поехать в Сернанкур на следующие выходные.
Я прожил эту неделю, как в бреду, проверяя работы своих учеников и печатая для них контрольные карточки.
В субботу мы взяли в аренду машину и выехали из Парижа около десяти часов утра. Я предупредил Алису, что мы заедем в Арвильер, и она настояла, чтобы мы там пообедали. Разумеется, я не мог сказать Алисе правду и представил Элоизу как свою коллегу, работающую в том же учреждении, что и я. Молодая женщина уже приезжала к моему деду, чтобы взять у него интервью, но в отсутствие Алисы. И все же я хотел, чтобы Элоиза еще глубже прониклась духом этого дома, в котором мы — Анна и я — жили и который был театром, где прошли лучшие годы нашей жизни. Я хотел также познакомить Элоизу с Алисой. Она разговаривала с Алисой только один раз, когда узнала от нее о смерти Абуэло.
Во время нашей двухчасовой поездки в Марну я рассказывал Элоизе о своем детстве, о смерти отца и об особом случае с Анной. Обо всем этом я постоянно думал, но до сих пор никогда не делился ни с кем своими сокровенными мыслями. Элоиза внимательно слушала меня. Она мало говорила, но умело, выбирая правильный тон и верные слова, побуждала меня к дальнейшим откровениям.
Так или иначе, после того как я передал Элоизе обещанную кассету, наш разговор вернулся к нацистским родильным домам, не переставшим меня преследовать.
— Как получилось, что вы заинтересовались лебенсборнами?
— По правде говоря, случайно. У нас на факультете работает удивительный профессор, специализирующийся на истории Второй мировой войны. Он мой научный руководитель. Ему понравилась моя работа, и он посоветовал мне продолжить исследование. Я поддерживаю с ним очень близкие отношения. Однажды, когда я училась на третьем цикле, я увидела по телевизору репортаж. Потом мы с ним обсудили проблему лебенсборнов и оба удивились, почему на эту тему существует так мало научных работ. К сожалению, мы так и не нашли вразумительного ответа на этот вопрос.
— Мало документов? — предположил я.
— Не думаю. В Арользене хранится обширная корреспонденция. После войны мир с ужасом узнал о нацистских лагерях, однако лебенсборны представляли собой потаенную сторону нацистской политики в области евгеники. Это позорная часть нашей истории, которую определенные силы смогли затушевать, поскольку утвердилось мнение, будто никто не пострадал. По сравнению с холокостом эти родильные дома выглядят такими безобидными… Разумеется, если не принимать в расчет десятки тысяч детей, которых немцы увезли из стран Восточной Европы. Но эти дети никого не интересовали.
— А дети, родившиеся на Западе, в оккупированных странах?
— Они тоже не получили права на сострадание. Это были «дети позора», символизировавшие коллаборационизм и беспринципность, о чем некогда оккупированные страны пытались поскорее забыть. От одних детей скрывали их происхождение, другие же, напротив, подверглись унижению и преследованиям, будь то в школе или в приемных семьях. У нас есть свидетельства о возмутительных оскорблениях и жестоком обращении.
— Но как люди смогли до этого опуститься после пяти лет страха и ужаса, которые пережила Европа?
— Это наглядное проявление трусости и малодушия. Дети стали идеальными громоотводами. Теперь любой мог выместить на них злость из-за собственных прегрешений. Их матерей стригли наголо, а самих детей буквально втаптывали в грязь. В Норвегии сразу после войны власти на деле применяли нацистские теории, но теперь их обратили против этих так называемых немецких ублюдков.
— Как?
— Детей войны помещали в отвратительные заведения. Исступленные психиатры осматривали их и заявляли, будто эти малыши представляют внутреннюю угрозу для страны. Одно время норвежцы даже собирались депортировать этих «зачумленных» в Австралию. Потом, в 1950-х годах, эти дети стали настоящими подопытными кроликами: на них испытывали препараты, вызывающие галлюцинации. Некоторые из них даже умерли.
— В конце концов можно понять молчание, окружавшее эти родильные дома в послевоенный период. Но почему историки потом не заинтересовались этим вопросом?