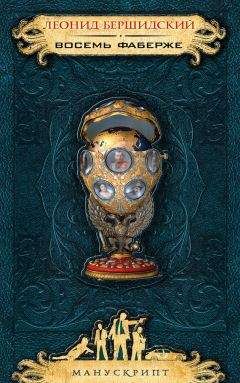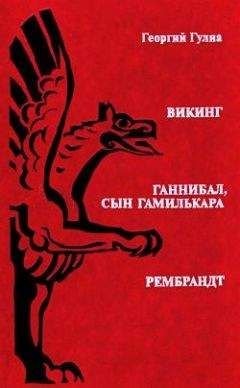– Гертье? Да ты хоть понимаешь, что говоришь? – Его гнев – не вполне искренний. Конечно, он заметил, что кормилица Титуса смотрит на него по-особенному. И она хороша собой, хоть совсем не так, как Саския. Гертье Диркс – вдова, здоровая, сильная провинциалка из бедной семьи, привыкшая к тяжелой работе и повиновению. Большие руки, резко очерченный, крупный рот, крутые бедра…
Жена давно не может спать с ним, и он стал снова замечать окружающих женщин – служанок, торговок, племянниц и сестер своих немногочисленных друзей. Но замену Саскии он не видит ни в одной из них: сама мысль о замене кажется ему нелепой. Это все равно что соскоблить ее лицо со всех картин, которые он написал, когда они играли в переодевания, и вписать вместо него другое.
– Понимаю, Рембрандт, – спокойно отвечает Саския. – Я избаловала тебя, ты не можешь долго без женщины. Выбери такую, которая будет тебе помогать, заботиться о тебе. Я сама хотела, но не смогла. Видишь, как у нас все вышло… А в прошлом году, когда Титье умерла от чахотки, я уже знала, что и мне недолго осталось. Просто не показывала тебе кровь.
В честь Титье, сестры Саскии, назвали Титуса. Ей было, кажется, тридцать два или тридцать три, вспоминает Рембрандт.
– Ты моложе Титье, – продолжает он хвататься за соломинку, по крайней мере на словах. – Ты поправишься, я знаю.
– Чахотке все равно, сколько тебе лет, – безжалостно возражает Саския. – Я скоро уйду, хотя больше всего на свете хочу остаться с тобой. И с Титусом.
Теперь по ее лицу текут слезы. Он старается вытереть их пальцами, но жена смахивает его руку.
– Обещай, что не замкнешься в себе, когда меня не будет. Тебе надо продолжать жить, и тебе нельзя бросать работу. С этим твоим окончательным портретом ты совсем нигде не бываешь, про тебя уже забыли, у тебя нет заказов.
– Откуда ты знаешь?
– Я хоть и лежу в постели, но это мой дом, я знаю, что здесь происходит. Ученики недовольны. И я вижу, что ты работаешь только над большой картиной, а их к ней не подпускаешь.
– Сейчас покажу ее тебе, – решает Рембрандт. Все что угодно, только не этот тягостный разговор.
На заднем дворе художник выстроил помост с навесом. В доме негде разместить такой огромный холст – больше шести локтей в ширину, пять с лишним локтей в высоту. Деньги, заплаченные восемнадцатью заказчиками – тысяча восемьсот флоринов! – давно потрачены: Рембрандт начал работу четыре года назад. Но он не может остановиться: снимает слои краски, пишет снова, убирает и вводит новые фигуры. Сейчас их тридцать три, почти вдвое больше, чем заказчиков. И не у всех, кто заплатил свою сотню флоринов, на картине полностью видны даже лица.
Что там так и не законченная «Буря на море Галилейском»! Нынешняя картина, когда он закончит ее – уже совсем скоро! – будет его главной работой. Она напомнит о нем городу и всем богатым заказчикам, снова сделает его главным живописцем Амстердама. Кто еще способен так распорядиться огромным пространством, так вылепить на холсте почти скульптурную группу?
Уже лет сто как офицеры городского ополчения заказывают групповые портреты своих рот. В ополченцы-аркебузьеры (теперь уже, на самом деле, мушкетеры, но традиционное название осталось) может записаться лишь тот, у кого не меньше шестисот флоринов годового дохода, – так Амстердам пытается избежать ночных набегов со стороны легально вооруженной пьяной черни. Но и для тех, кто побогаче, служба в городской милиции – приключение, повод и выпить, и погеройствовать. Не всё же пожары тушить – хотя ополченцы должны заниматься и этим.
Из капитанов-аркебузьеров прямой путь в городской совет, а то и в бургомистры, и главный заказчик окончательного портрета – капитан Франс Баннинг Кок – делает уверенные шаги по этому пути. Он выучился на правоведа во Франции, женился на дочери бывшего бургомистра, крупного помещика. Ему нужен портрет, на котором он выглядит героем во главе своей роты. И, зная, какую ставку делает на него живописец, он готов ждать долго. Хотя, разумеется, не вечно.
Рембрандт иногда позволяет Коку посмотреть, как движется работа. Это отступление от его правил, но Кок важный человек и станет еще важнее. Если уж не удалось заручиться дружбой еще одного капитана ополчения, Андриса де Граффа, который несколько лет назад пытался не заплатить Рембрандту за портрет, якобы на него не похожий, – Франс Кок подойдет ничуть не хуже. Тем более что его жена в родстве с де Граффами. От таких людей в конечном счете и приходят настоящие заказы – не на портреты, а на большие исторические сцены.
Спускаясь на задний двор, Рембрандт мысленно продолжает разговор с женой. «Я все делаю правильно, Саске, я стараюсь, думаю о Титусе, думаю все время. Я не допущу, чтобы он жил в нужде. Только вот я не уверен, что смогу достойно нести мое горе, когда тебя не станет. Ты – смысл моей жизни, я построил ее вокруг тебя. И что останется, когда ты уйдешь? Зарабатывать деньги для сына – да, это понятно, но получится ли из этого новая жизнь? Я не уверен, Саске, я совсем не уверен».
Сказать ей все это вслух означало бы согласиться с ее предсказанием скорой смерти. И переложить на нее часть своих сомнений. Ни того, ни другого Рембрандт сделать не может. Поэтому он просто начинает ворочать гигантский холст, чтобы Саскии стало видно из окна. Он никого не позовет на помощь, потому что действительно не подпускает к картине учеников. Это целиком и полностью его труд, и Рембрандт хочет, чтобы все было честно: ни одного чужого мазка. Хватит ему истории с «Бурей» и Флинком, этого пятна на его совести, о котором, конечно, известно только трем людям, пока удержавшим язык за зубами, – но дело ведь не в этом.
Обернувшись, он видит в окне третьего этажа бледное лицо Саскии и ее узкую ладонь на стекле. И остро чувствует, что она уже прощается с ним. Что остались не месяцы, а дни. Он стоит, опустив руки, смотрит вверх и вдруг ясно представляет себе, как сам попрощается с Саске.
Главной фигурой окончательного портрета будет не Франс Кок, не его лейтенант Виллем ван Рейтенбюрх, не два сержанта-алебардиста, на самом деле торговцы мануфактурой, – никто из этих в разной степени знатных и зажиточных амстердамских бюргеров, которые так любят пострелять из мушкета по деревянному попугаю. Рембрандт знает, что парадную стену большой залы в новом здании гильдии стрелков на Кловенирс Форбургвал украсит портрет Саскии ван Рейн, возвращенной в этот мир.
Вернувшись к жене – Гертье уже помогла ей лечь, – Рембрандт спешит поделиться своим планом.
– Знаешь, может, и вправду не стоит слушать все, что говорят доктора… Если будешь раз в день вставать и выглядывать в окно, увидишь, как я кое-что меняю в картине. Кое-что важное.
В первый день Саския, выглянув в окно, замечает, что Рембрандт расчистил слева от центра холста место в полтора локтя в высоту и дюймов десять в ширину. Что он затеял, неужели опять собрался все переустраивать, тревожится Саския. Так он никогда не сдаст эту картину, да еще и поссорится с капитаном Коком!
На второй день на расчищенном месте появляются очертания маленькой фигурки в платье. Кто это? И почему почти в середине холста? Карлица? Но аркебузьеры – не испанские гранды, они не ходят со свитой уродцев.
Поднимаясь с постели все с большим трудом, теперь уже всегда с помощью неутомимой Гертье, Саския наблюдает, как фигурка девочки обретает плоть, одевается в богатое золотистое платье, становится противовесом ярко освещенной фигуре лейтенанта ван Рейтенбюрха, расположенной чуть справа от центра картины. Как на поясе у девочки появляется неощипанная курица. Саския понимает, что теперь зритель кинет первый взгляд на девочку, а не на офицеров. План Рембрандта пока не становится для нее яснее, но мастер добился своего: она забывает о болезни в ожидании тех минут, когда можно будет выглянуть в окно и увидеть новую порцию изменений.
– Что ты затеял? – спрашивает она его прямо. – Ведь у тебя заказчиков едва видно, а эта малышка явно не платила тебе сто флоринов, чтобы оказаться в самой середине картины.
Рембрандт изображает беспечную улыбку:
– Она заплатила гораздо больше.
Восьмого июня, в девятую годовщину их помолвки, Саския чувствует, что не сможет сегодня подняться. Стоит ей оторвать голову от подушки, в глазах темнеет. С утра ее терзает кашель; кажется, что легкие превратились в лохмотья. Но она зовет Гертье и пересиливает себя. Рембрандт закончил картину.
У девочки лицо Саскии.
Она долго стоит, упираясь в оконную раму обеими руками, чтобы не упасть. Рембрандт в измазанной краской блузе неотрывно смотрит на нее снизу, выронив кисть. То ли ей кажется, то ли он действительно беззвучно плачет. Только когда чернильная темнота снова сгущается перед глазами, она манит рукой Гертье, и та почти несет ее к кровати. «Принеси Титуса, – просит Саския. – Покажи ему, что сделал отец».
Через шесть дней ее не стало.