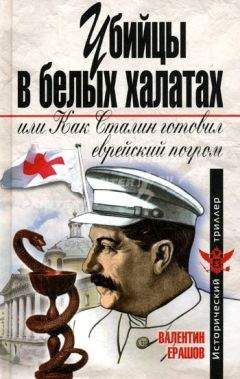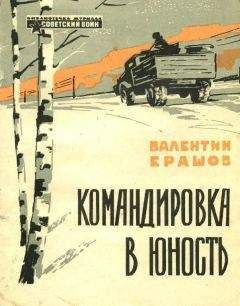Когда обрушилась старость, он перестал фотографироваться (размножали прежние, где он моложе, портреты), редко появлялся в кинохронике (и только на средних планах), о том, как он выглядит, народ судил либо по этим изображениям, веря им, поскольку Он давно стал если не Богом, то полубогом, а боги, известно, неподвластны течению времени, либо народ судил по загримированному и точно перенявшему Его манеры, повадки, жесты Михаилу Геловани. Кремлевская и кунцевская челядь наблюдала его, так сказать, в натуральном виде, но это не причиняло особого беспокойства: их мало и они болтать не станут.
Старость грянула разом, едва кончилась война: надорвался, устал, не берег себя и после Победы, на какое-то время отпустил вожжи, расслабился — оказалось, необратимо. И, с ужасом поняв, что дожить до девяноста лет, как он себе положил, заведомо не удастся, он торопился осуществить все задуманное побыстрее и, кроме того, придумать нечто новое, неслыханное, что еще прочнее закрепило бы его имя в бессмертной памяти бесчисленных поколений.
Страна еще не завершила восстановление хозяйства, разрушенного и подорванного войной, а Он в пятидесятом повелел приступить к сооружению гигантских гидроэлектростанций и каналов, к строительству в Москве высотных зданий, к развертыванию всевозможных народных починов. Но ГЭС, каналы, небоскребы существовали и в других государствах — требовалось нечто иное, не имеющее аналогов.
Инициатива должна была исходить от него — ибо все важное в стране исходило от него: он разгромил оппозицию, он осуществил индустриализацию и коллективизацию, он выиграл страшную войну, приступил к великому преобразованию природы, создал государства нового типа — страны народной демократии, ликвидировав тем самым капиталистическое окружение СССР, в короткий срок создал атомную бомбу…
Сейчас, когда он постарел, когда жить осталось мало, когда идеи, в сущности, иссякли, он решил напоследок осуществить давно задуманное, до чего прежде не доходили руки. И он повел подготовку исподволь, так, что даже самые ближние не понимали, к чему клонятся кампании, предпринятые им предварительно. Лишь видели то, чего нельзя, невозможно было не увидеть, сокрушающий удар — притом не краткий, а растянутый во времени — он обрушил на интеллигенцию.
Еще совсем малышом он понял: его отец, сапожник, — пьяница (позор для грузина!), его мать ходит обстирывать и прибираться в домах чужих людей (позор для грузинки!), семья их бедна не той честной бедностью, что вызывает сочувствие, а совсем другой, порожденной пьянством, безалаберщиной, отсутствием порядка в доме; если бы при этом Виссарион и Екатерина Джугашвили имели нескольких детей — бедность семьи была бы простительной; но Сосо был единственным ребенком, и это вызывало не сочувствие, а насмешки сперва над родителями, затем над ним самим; не имея братьев и сестер, в окружении многодетных семейств он чувствовал себя неполным, обездоленным.
Он был с детства нехорош собой и рано осознал это: короткое узкое туловище, непомерно длинные руки, маленький рост. Ему было девять лет, когда он повредил левую руку и плечо — безжалостные сверстники высмеивали его, и он замыкался, не участвовал в играх, сделался молчалив и угрюм; увечье, угрюмость и молчаливость остались в нем на всю жизнь. А злоба против соседей, соучеников постепенно обернулась злобою против всех на свете, породив жестокость и мстительность.
Когда минуло одиннадцать, умер отец, и мать определила Сосо в духовное училище, а после окончания — в православную духовную семинарию: видеть сына священником было для нее, безграмотной крестьянки, даром божьим. Вряд ли из него получился бы хороший священник: он не любил людей и был плохим проповедником, речь его была монотонна, медлительно-тускла. Из семинарии его исключили — в 1901 году он стал профессиональным революционером.
Он хотел слыть знаменитым теоретиком. Но ум его, иссушенный семинарской зубрежкой, был догматичен, образование — односторонне и ограниченно. Попытки писать свелись к агитационным статьям в социал-демократических газетах и листовках; зато организатором он оказался умелым.
Он вспоминал причитания матери: будешь священником, проповедником, исповедником, наставником, уважаемым человеком! Но оказалось: чтобы утвердить себя, есть иной путь.
Трезвым нюхом он почуял — к эсдекам, приверженцам Ульянова! Похоже, и тот не чуждался тщеславия и честолюбия, умел нащупать момент, умел, когда надо, приноровиться, приспособиться, умел атаковать без авантюризма, умел без позорной поспешливости сделать ретираду.
Он пришел к эсдекам, пришел в революцию не из романтических побуждений и без всяких идеалов, но лишь потому, что не хотел, не мог оставаться внизу, карьера священника не устраивала его, а уязвленное самолюбие бедняка вело, звало наверх, и путь, ему открывшийся, казался теперь единственным.
Он изначально не был духовен. Он был и неглубок. Однако он легко схватывал главное, умел определить «основное звено», он мог превосходно, с налету разобраться в технических, военных, политических вопросах, но никогда не стал бы — и не стал! — человеком глубоко мыслящим, творческим.
В общей сложности немногим более месяца он провел за пределами России. Там, среди эмигрантов, составлявших цвет партии, были Георгий Валентинович Плеханов, Анатолий Васильевич Луначарский, Николай Иванович Бухарин и Лев Борисович Каменев, Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Давидович Троцкий, Юлий Осипович Мартов — не просто функционеры, каким оставался он, это в большинстве были теоретики, это были интеллигенты, и он, выходец из деклассированной семьи, полуобразованный, хотя и начитанный, не знающий ни одного иностранного языка, почувствовал неодолимую зависть к этим людям…
Среди них были, конечно, и великороссы, и малороссы, и кавказцы, но, казалось ему, на первом плане всегда обнаруживались евреи, наделенные живым, острым умом, восприимчивостью, ораторскими талантами. Он внушал себе, сперва внушал, потом поверил, что все они суть краснобаи, мастера эффектной революционной фразочки; выскочки, пекущиеся только о собственном авторитете, о том, чтобы всегда быть на виду. Он их возненавидел, он, для кого революция действительно составляла лишь средство к самоутверждению. Собственные помыслы он присвоил партийным коллегам из числа евреев, он возненавидел их и боялся уже тогда…
Он со злобной радостью узнал — тогда в том не заключалось никакого секрета, умалчивать стали после, — что и Ленин отчасти тоже из них: дед Владимира Ильича по материнской линии, военный врач Александр Дмитриевич Бланк, был крещеным евреем, и, следовательно, в жилах Ульянова (так теперь — мысленно — он стал все чаще называть) заключалась четвертушка их крови.
Ульянова он возненавидел тоже, и не только по этой причине, а еще и потому, что тот, по сути, ничем — до Октября — не выделял его, Сталина, из рядов таких же функционеров.
Лишь где-то в середине двадцатых годов имя Сталина прозвучало с добавлением эпитета «великий», кажется, это молвил Емельян Ярославский. Свое дело он сделал, великим называли все чаще и чаще, это стало как бы неотъемлемой частью имени. Потом перешли и к гениальному.
Он победно громил одну оппозицию за другой, ставил на колени, заставлял каяться, вышибал из партии, после покаяния принимал снова и опять вышибал, пока не навел в партии порядок, к тридцатому году стало тихо и можно было приступить к коллективизации, затем — к индустриализации. Он быстро расправился с нэпом, перекроил планы Ульянова, страна рукоплескала, ликовала, строила, побеждала, жизнь делалась краше и счастливей с каждым днем, у Него не осталось и следа ущербности, неполноценности, он уверовал в свою гениальность, о ней твердили всюду и всегда, на каждом шагу, как на каждом шагу висели теперь его портреты…
И, достигнув значительно большего, нежели он хотел, Он впал в состояние непреходящего, непрерывного страха.
Он был одинок и несчастлив, достигнув всего, чего хотел и даже более того.
' Он жил в страхе, ужасе, тихой панике — всегда, постоянно и всюду: в Кремле (въездные ворота, площадь, лестницы, приемная, кабинет, служебные апартаменты, маленькая скромная квартира); в Кунцеве (глухой забор с колючей проволокой под током, сад, комнаты, закрытая стеклянная веранда, ванная, туалет); в автомобиле (бронированные, с пуленепробиваемыми зеркальными стеклами «паккард», «кадиллак», ЗИС, постоянно меняемые; водитель-гэбист в офицерском звании); на улицах Москвы, коими вынужден был ездить. Боялся утром, днем, вечером, ночью; боялся, когда один и когда — на людях; боялся наяву и во сне, работая и отдыхая, за книгой и лежа на террасе в блаженном, как полагалось бы, а на самом деле тревожном безделье. Боялся отравы, пистолетного выстрела, подложенной мины, автомобильной катастрофы, спровоцированного пожара, грозы, наводнения. Боялся членов Бюро и личного приближенного Поскребышева, сволочного Берию и трусоватого, безликого Ворошилова, работников секретариата, собственных охранников и часовых, обслуги, включая добродушную экономку и преданного, искренне заботливого личного врача. Боялся некогда любимой дочери Светланы, особенно когда вопреки его воле вышла замуж за еврея Григория Мороза, срочно переименованного в Морозова, боялся беспутного сына Васьки. Боялся прохожих — зеркальные окна автомобилей скрывали его от взглядов снаружи, но позволяли ему видеть изнутри. Боялся порывов ветра, шелеста древесной листвы, стука в дверь, хлопанья пробки шампанского, жужжания комара. Боялся собак, в юности им любимых, боялся птиц, лягушек, ящериц, пауков. Боялся запахов лекарств, цветов, типографской краски, пряных обеденных приправ.