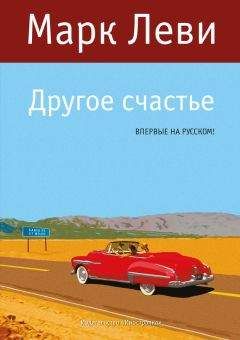Ознакомительная версия.
Том бросил негодующий взгляд на Рауля, чье веселье было совершенно неуместным.
– Не желаете водички? Не хотелось бы показаться грубияном.
– Я выполняю задание! – гаркнул Том, потеряв терпение. – Препятствование действиям представителя закона, наказание – два года лишения свободы, можете мне поверить.
– Какое еще задание? – спросил Рауль, присаживаясь на табурет рядом со своим пленником.
– Что вы лезете на рожон?
– Такой уж уродился. Кстати, я хотел задать тебе тот же самый вопрос. Ко мне в клуб пожаловал не простой маршал, а старый знакомый! Думаешь, морщины и короткая стрижка изменили тебя до неузнаваемости?
– Тогда прекрати дурить, Рауль. Развяжи меня, нам надо поговорить.
– Поговорить я согласен, но предпочитаю, чтобы ты оставался связанным. Я действительно должен еще пару часиков вздремнуть, иначе я не человек. После этого, если будешь умницей, я напою тебя кофе и буду готов с тобой поболтать.
Рауль встал и побрел к лестнице. На нижней ступеньке он оглянулся на своего пленника.
– Если ты разбудишь меня, пытаясь освободиться – а при таком узле это совершенно невозможно! – то я спущусь и врежу тебе еще разок. Ты тоже мне поверь, после этого ты будешь дрыхнуть дольше, чем я.
Он улыбнулся и ушел наверх, спать.
* * *
Во сне она часто видела картинки прошлого. В неволе это приносило некоторое успокоение. Ночь распахивала перед ней двери в свободу, которая днем была для нее под запретом. Если бы не надзиратели, барабанившие в двери камер перед рассветом, она бы с радостью проспала весь свой срок. Бодрствуя, она находила только две лазейки для бегства из неволи – книги и сочинительство. Стоило ей завладеть карандашом – и никакие стены, никакие решетки не могли помешать ее путешествиям.
Сейчас она, прижавшись головой к окну «олдсмобиля», клевала носом. Милли время от времени переводила взгляд с дороги на спящую. Та во сне улыбалась и шевелила губами, как будто с кем-то беседовала. Милли дорого заплатила бы, чтобы узнать, кто ее собеседник.
Брэд ждал ее в кафе в районе Трайбека. На нем была расстегнутая куртка, белая рубашка и серые брюки. Он поднялся ей навстречу, потом вынул сигарету изо рта, чтобы поцеловать ее в щеку, и обжег себе пальцы. Агате нравилось его смущение.
Какое чудесное чувство невесомости, когда тебе одновременно радостно и немного неловко! Она чувствовала то же самое, он был рядом, и это придавало ей сил. В разговоре они вспоминали совместное путешествие, завершившееся всего три месяца назад, но только не тот момент, когда Брэд, опершись об ограждение парома, пересекавшего Миссисипи, обнял Агату за талию. Откуда берется алхимия, соединяющая два существа? Где ее истоки? И откуда берется стыд, мешающий пылу? Оба размышляли об этом, не смея в этом сознаться. Для большей солидности Агата завела речь о предстоявших акциях, но Брэд ее не поддержал: казалось, ему не хочется обсуждать это с ней. Он предпочитал расспрашивать ее о том, что она любит, что читает, какие у нее планы. Но, как он ни старался, разговор получался скучным и банальным, и он это чувствовал. Он засыпал ее вопросами, чтобы замаскировать свое волнение, и она отвечала ему тем же.
Когда рука Брэда приблизилась к ее руке, кафе в Трайбеке исчезло в матовом тумане, его голос затих.
Потом он вырос на сцене аудитории, перед которой, в первом ряду, сидела Агата. За ее спиной вопили студенты, решая открытым голосованием вопрос о повторном захвате помещений. В каком университете она находится? Сан-Франциско, Феникса, Нью-Йорка? Рядом с ней, через пустое кресло, сидела ее сестра, самозабвенно записывавшая в тетрадку все выступления, как будто была обязана зафиксировать каждое словечко, полностью воспроизвести дебаты в своей статье. Когда Брэд умолк, она стала, морщась и кусая губы, править написанное.
Казалось, каждое слово в ее тетрадке написано кровью из вен, синевших под тонкой кожей шеи.
Брэд сел и, наклонившись к сестре Агаты, спросил, что она думает о его выступлении. Это сообщничество, внезапное и совершенно необоснованное, стало для нее оскорблением. Она сбежала из аудитории и стала расхаживать по коридорам.
Какая-то пара целовалась за шкафчиком с выдвинутыми ящиками, игравшим роль ширмы. Чуть дальше сидели на полу три девушки, они ели и болтали. Подземный коридор, соединенный с канализацией, позволял выйти отсюда на улицу. Студенты пользовались этим лазом, чтобы после наступления темноты пополнять запасы продовольствия под носом у своры копов, окруживших кампус.
Сейчас им воспользовалась Агата. Прокравшись вдоль стены, она вышла на перекресток и перешла на другую сторону.
Ее целью была ближайшая бакалея. Войдя туда, она очутилась в форменном вертепе, заваленном нагими телами, над которым стояло облако едкого дыма. Лавируя между лежащими, вглядываясь в дым, она искала Брэда. Она звала его во весь голос, пока не увидела: приподняв голову, он безмятежно улыбался. Рядом с ним лежала ее сестра, со смехом глядя на нее. Ей хотелось спросить, почему они ее предали, но она проснулась до того, как они успели ей ответить.
– Вы проспали целых четыре часа, – сообщила ей Милли.
– Куда мы заехали? – спросила Агата, открыв глаза.
– Бейкерсфилд, все еще Миссури. Надеюсь, я не заблудилась. В любом случае, мне придется остановиться, чтобы заправиться и размять ноги. Руки тоже затекли и не чувствуют руль.
– Мне тоже надо размяться, – сказала со вздохом Агата.
– Вам снились кошмары? Вы несколько раз говорили во сне.
– Даже не знаю, как назвать этот сон. Он мне часто снится. Хорошее начало и ужасный конец.
– В свое время я боялась ложиться спать, – призналась Милли. – Сопротивлялась до последнего, пока усталость не валила меня с ног. Мне внушало ужас то полубессознательное состояние в темноте, когда малейший звук превращается в эхо наших страхов, тишина напоминает о неминуемости нашей смерти или, того хуже, смерти наших любимых.
– Это было уже после смерти твоей матери?
– Нет, это продолжалось все мое детство и отрочество.
– Расскажи мне о твоей матери. Не все же время мне одной изливать душу!
– Мама была художницей, но за ее картины платили совсем мало, притом только на распродажах, которые она сама устраивала с весны до конца лета. Чтобы жить, она постоянно где-то подрабатывала. Помогала цветочнице подрезать розы, собирала использованные похоронные венки, составляла свадебные букеты, натаскивала отстающих соседских учеников, давала уроки игры на гитаре, английского, истории, алгебры – хваталась буквально за все. В зимние месяцы даже занималась извозом: подвозила соседей в своем пикапе к врачу, в парикмахерскую, за дровами, за провизией, в торговые центры Санта-Фе. В те годы, когда мы бедствовали, хотя отказывались называть происходящее этим словом, она могла бы обратиться за помощью в мэрию, но гордость заставляла ее самой заботиться о крыше над головой и пропитании. Когда я уставала притворяться, что у нас все в порядке, она подбадривала меня, утверждая, что мы не такие, как другие, что мы справимся сами, что нам никто не нужен. В конце концов эта наша непохожесть на других стала меня пугать. Матери моих подружек замечали нашу бедность, и приглашения на их дни рождения были для меня невыносимой пыткой. Я всегда была плохо одета, все мне было либо велико, либо мало. А школа – жестокое место…
– Не понимаю… В рождественском центре ты мне сказала, что в детстве мать тебя баловала, – напомнила Агата.
– Вам никогда не случалось врать из гордости? Я всегда была гордячкой и ею осталась, ничего не могу с собой поделать. По мне этого ни за что не скажешь, – продолжала Милли, – но в старшей школе мне даже доводилось драться с девчонками, которые надо мной насмехались.
– Надеюсь, у тебя получалось как следует проучить этих мерзавок!
– Иногда в отсутствие матери приезжала без предупреждения бабушка. Она совала мне несколько долларов и наполняла нашу кладовую. Мать отлично знала, что все эти консервы появляются там не по волшебству, но делала вид, что так и надо.
– Они не ладили?
– Они почти не разговаривали. Сколько их помню, они вечно были в ссоре – для меня так и осталось загадкой из-за чего. У Манинии – так я прозвала свою бабушку – было две дочери. Мама была старшей, младшая умерла еще до моего рождения. Ни разу не видела ни одной фотографии своей тетки. Утрата ребенка – незаживающая рана, так всегда говорила Маниния. Мне запрещалось заговаривать с ней об умершей младшей дочери. В тех редких случаях, когда я все-таки поднимала эту тему, она закрывалась, как устрица, и уходила. Я не настаивала, не хотелось причинять ей боль своими приставаниями. Бабушка – существо нежное и хрупкое, так я привыкла считать.
Агата отвернулась к окну.
Ознакомительная версия.