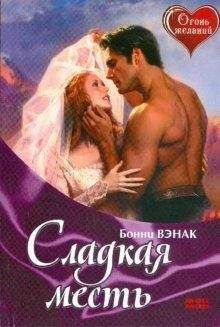— Ходили слухи, что у них не все гладко.
— Неужели? Я ничего такого не слышал.
Беседы с журналистами быстро приобретают характер противоестественного сотрудничества: двое абсолютно незнакомых людей морочат друг другу голову.
— Значит, вы не имеете представления, почему вдруг он наложил на себя руки?
— Нет.
— Совсем никакого?
— Совсем.
— Когда вы видели его в последний раз?
— Когда?.. Э-э, мы вместе завтракали у меня в клубе около года или чуть больше назад, точно не помню.
— И как он тогда выглядел?
— Прекрасно.
— Вел себя нормально?
— Да. Послушайте, а к чему все-таки вы клоните? Вы мне сообщили, что мой друг покончил с собой, но пока это лишь слух, и я не хочу сейчас обсуждать, что бы такое могло его до этого довести.
Пока я отбивался от сыпавшихся на меня вопросов, почему-то именно Софи, жена Генри, возникала перед моим внутренним взором. Вероятно, волны моих мыслей передались ему, потому что он спросил:
— Вы будете разговаривать с миссис Блэгден?
— Я даже не знаю, где ее найти.
— О, уверен, мы могли бы разыскать ее для вас.
— Ну конечно, я напишу ей в свое время, но если побеспокоить ее именно сейчас, не думаю, что она будет в восторге.
— Значит ли это, что вы уже не так близки?
— Что за странный вопрос!
Он уловил нарастающее раздражение в моем голосе и снова извинился.
— Просто нам нужно завтра напечатать сообщение, и мы пытаемся собрать как можно больше подробностей.
— Подробностей о чем? О его смерти или о нашей дружбе?
— Ну, очевидно же, что нужно было обратиться к вам. Мнение такого человека, как вы, многого стоит. Он ведь был фигурой общественно значимой, а если вдобавок учесть то, что происходит в Кремле, вся история становится еще более важной. Кстати, вы не в курсе, почему он оказался в Москве именно в это время?
— Нет, не в курсе. Я же сказал, что мы не виделись много месяцев.
— Некоторые считают, что он был связан с разведкой.
— Разве?
— Да. Он, кажется, где только не наследил, и сейчас связываться с разведкой, конечно, опасно. Итак, вы ничего не можете об этом сказать?
— Нет.
— Даже с учетом своих связей?
— Думаю, что мои связи здесь ни при чем.
— Но вы же пишете о шпионах, значит, можете считаться экспертом.
— Сочиняю, — ответил я. — Чтобы выдумывать детективные истории, не обязательно быть убийцей.
— Но вас так часто хвалят за необыкновенную точность.
— У меня, как и у вашей газеты, бывают проблемы с приведением фактов в порядок.
Не знаю, уловил ли он иронию, но тему сменил.
— О’кей. Не знаете ли вы, кто бы еще мог нам что-нибудь сказать?
— О чем?
— Ну, что он был за человек?
— По-моему, он был на редкость усердный парламентарий.
— Усердный? Прекрасная характеристика. Думали ли вы, что он пойдет дальше?
— Что значит «дальше»?
— Ну, несмотря на его способности, его так и не выдвинули на министерский пост, каждый раз обходили.
— Не знаю. Я не силен в политике.
— Но ведь он был честолюбив, не так ли?
— Тот, кто хотя бы мечтает о политической карьере, другим и быть не может.
— Вы когда-нибудь разговаривали об этой стороне его жизни?
— Да. Как правило, людям нравится говорить о том, что их особенно интересует, а у большинства моих знакомых политиков голова работает лишь в одном направлении.
— Не припомните ли вы, например, хоть что-нибудь о его отношениях с премьер-министром? Он не входил в ее окружение?
— Я не держу в кармане диктофон, когда беседую с друзьями, мистер Андерсон. Уверен, он был нормальным политиком, как и многие другие…
— То есть?
Раскапывая грязь, он был находчив и напорист, но я не попался.
— Он умер, — сказал я, — а остальное домыслы. Я знаю, ваш долг делать дело в полную меру своих способностей, хотя это не всегда и не всем нравится. Но мне действительно больше нечего вам сказать.
— Хорошо, сэр (меня опять милостиво повысили). Но прежде, чем вы повесите трубку, задам вам еще один, последний вопрос. Как бы вы хотели быть представлены? — Он уходил из моей жизни так же, как и вошел в нее: с фальшивой искренностью.
— Доброжелатель, — ответил я.
— Ха-ха, ну конечно. — Его наигранный смех забулькал у меня в ухе, как убегающая струя воды в ванне. — Можем ли мы сказать «писатель»?
— Почему бы и нет? Это оправдывает многие грехи.
После этого разговора я начисто забыл о своей пропавшей работе. Трудно осознать сразу, что человек, которого ты знал тридцать лучших лет твоей жизни, ушел из нее навсегда. И в голове у меня пронеслась длинная вереница эпизодов — тривиальных, отчаянных, счастливых, горьких и печальных, когда это осознание наконец пришло. Годы, проведенные вместе, промелькнули на экране памяти словно из какого-то автоматического проектора — одни в фокусе, другие расплывчато: память любит пошутить. Софи виделась мне яснее, чем Генри. Может быть, меня просто оберегало подсознание; совсем не хотелось представить себе лицо повешенного — единственное, что в связи с этим вспоминалось, были кадры хроники Второй мировой войны с партизанами, болтавшимися на столбах и деревьях вдоль дороги, похожими на тряпичных кукол. Представляя себе раньше жертвы самоубийства, я обычно вызывал в воображении более спокойные картины: распростертое на постели тело, а на расстоянии вытянутой руки — пустой пузырек из-под пилюль. Но повешение — это совсем другое: его тяжко представить. После очередного глотка виски воображение мое притупилось, но не до конца. В памяти возник номер в московской гостинице — без всякого комфорта, с мебелью из полузабытого прошлого, весь в черно-белых тонах старого фильма. Чем воспользовался Генри, чтобы покончить с собой, — подтяжками, куском шнура, своим галстуком от Уайта? Выбил ли из-под себя шаткий стул, хорошо ли подогнал петлю, перехватило ли ему шею, или он медленно задыхался, выбулькивая последнее раскаяние?
Я шагал взад-вперед по комнате, думая об иронии судьбы: по холодным просторам Советского Союза только-только начали разливаться вешние воды надежды — и именно это время и это место Генри выбрал, чтобы зачеркнуть свое будущее. Почему? Будь он одним из моих персонажей, я ни за что не сделал бы его потенциальным самоубийцей. Сколько я его помнил — с первых дней нашей дружбы в университете, — он был мастером бравады, борцом с условностями, за лучшие, уже близкие, как он надеялся, времена, неунывающим оптимистом. И я восхищался этими его качествами, завидовал ему и, признаться, преклонялся перед ним, как перед героем.
Я быстро обнаружил, что оба мы прошли через увлечение прилипчивыми, если не сказать занудными историями Фрэнка Ричардса про Грейфрайрскую школу[5], которыми нас усиленно потчевали в юности.
Если бы кто-нибудь захотел понять, что нас сблизило (а многие, надо сказать, хотели), то ответ надо было искать на страницах журнала «Магнет»: в противоположность мне — Гарри Уортону, он был Верноном Смитом — этим «хулиганом из переводного класса», постоянно покушающимся на правила, постоянным подстрекателем наших совместных эскапад. Будучи старше меня на пару лет, он проявлял искушенность во многих делах, и я невольно стал пленником его более сильной личности. Он мог заставить меня поверить во что угодно. Помню, какое огромное впечатление на меня произвел его рассказ о прадеде по материнской линии, входившем в кружок «Души» — тесную компанию поздневикторианских аристократов. Генри часто вспоминал о нем, желая показать, как многое он унаследовал от этих, почти забытых, людей блестящего ума и живого темперамента. И я стал бегать по библиотекам, чтобы как можно больше узнать о «Душах» и не выказывать своего невежества. Нахватав кое-каких сведений о них, я набрался смелости и заявил, что верные члены «Душ» почти исключительно исповедовали упадочнический романтизм. Генри ничуть не обиделся и принял критику как должное.
— Да, — сказал он, — но они были уверены, что близки к совершенству, что бы ни делали.
Он всегда умел использовать критику в своих интересах и потому без труда одержал не одну победу в дискуссионном клубе; это качество и явилось впоследствии источником его политических амбиций.
Несмотря на отчаянные попытки повысить свой социальный статус, он, как и я, был вечным пленником своего происхождения из среднего класса, что тяжело переживал, всячески стараясь отвлечь внимание от своей родословной. Я хорошо это знал. Его отец был сельским стряпчим, а мать, умершая, когда Генри еще бегал в коротких штанишках, — дочерью священника; но Генри обычно говорил: «Ее отец, епископ», забыв, что показывал мне альбом с семейными фотографиями, где епископскими мантиями и не пахло.
Из таких деликатных для себя ситуаций он всегда выкарабкивался бочком, как краб, хотя в других случаях проявлял упорство, стремился прорваться там, где другие пробирались, крадучись на цыпочках. Я до сих пор убежден, что в годы формирования своего характера он оставался идеалистом и в глубине души лелеял мечту о женщине своих детских грез, о целомудрии и красоте.