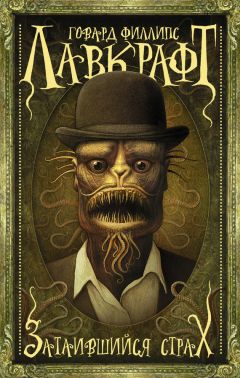Ознакомительная версия.
Потустороннее
Странная, неподдающаяся объяснению перемена произошла с моим другом Кроуфордом Тиллингастом. Я не видал его два с половиной месяца, с того самого дня, когда он признался мне, с какой целью ведет физические и метафизические исследования, и в ответ на мои опасения и увещевания в приступе ярости выгнал меня из лаборатории и выдворил из своего дома. Я знал, что после этого он заперся в лаборатории в мансарде с этой ненавистной мне машиной, отвергая пищу и помощь прислуги, но, увидев его, с трудом поверил, что человеческое существо может настолько сильно измениться и так обезобразиться за всего лишь десять недель. Не так уж приятно видеть некогда полноватого человека внезапно сильно похудевшим, а еще неприятнее заметить, что его обвисшая кожа пожелтела, а местами стала серой, глаза ввалились, стали обведены кругами и жутко поблескивают, лоб покрылся сетью морщин, а руки дрожат и подергиваются. Если добавить к этому отталкивающую неряшливость, беспорядок в одежде, начинающую редеть нерасчесанную шевелюру, давно не стриженную седую бороду, почти скрывшую некогда гладко выбритое лицо, то невольно испытываешь нечто близкое к шоку. Таким предстал передо мной Кроуфорд Тиллингаст в ночь, когда его невразумительная записка заставила меня после многих недель нашего разрыва вновь появиться у дверей знакомого дома; стоявший передо мной со свечой в трясущейся руке на пороге старого, уединенно расположенного дома на Беневолент-стрит, поминутно озиравшийся по сторонам и пугавшийся чего-то невидимого или видимого только ему одному, скорее напоминал призрака.
То, что Кроуфорд Тиллингаст занимался наукой и философией, было ошибкой. Заниматься подобным следовало бы беспристрастному человеку с холодным рассудком, а для чувствительного и импульсивного человека, каким был мой друг, наука сулила два в равной мере трагических исхода: отчаяние в случае неудачи или невыразимый и неописуемый ужас в случае успеха. Однажды Тиллингаст уже потерпел неудачу, в результате чего обрел склонность к затворничеству и меланхолии, а по страху, который он испытывал теперь, я понял, что на сей раз он пал жертвой успеха. Я предупреждал его об этом десять недель назад, когда, увлеченный своей фантастической идеей, он с головой погрузился в исследования. В тот момент он был чрезвычайно возбужден, раскраснелся и излагал свои идеи неестественно высоким, но, как всегда, уверенным и спокойным голосом.
– Что известно нам, – говорил он, – о мире и окружающей вселенной? Органы чувств сообщают нам о них до абсурдного мало, а наши представления об окружающих предметах невероятно скудны. Мы видим вещи такими, какими мы созданы их видеть, и не в состоянии постичь их абсолютную суть. Слабыми пятью чувствами мы лишь обманываем себя, лишь тешим себя иллюзией, что воспринимаем всю безграничную сложность окружающего пространства, тогда как существа с более широким спектром и большей глубиной чувств могут не только по-иному воспринимать предметы, но способны видеть и изучать целые миры иной материи, энергии и жизни, которые окружают нас, но которые нельзя постичь земными чувствами. Я всегда верил, что эти странные, недосягаемые миры существуют у нас под боком, и теперь, похоже, придумал способ преодолеть разделяющий нас барьер. Я говорю это совершенно серьезно. Еще какие-то двадцать четыре часа, и вот эта машина, что стоит у стола, начнет генерировать лучи, оживляющие наши атрофированные или рудиментарные чувства. Эти лучи откроют нам доселе неведанное человеку в отношении органической жизни. Мы узреем причину, по которой собаки ночью воют, а кошки навостряют слух. Мы увидим это и многое другое, недоступное простым смертным. Мы преодолеем время и границы измерений и, не перемещаясь физически, проникнем в глубь мироздания.
Когда Тиллингаст сказал это, я принялся отговаривать его, ибо, зная его достаточно хорошо, скорее испугался, чем обрадовался его достижениям, но он был фанатично одержим этой идеей и, не пожелав более со мной разговаривать, выставил из своего дома. Его одержимость не пропала и сейчас, но желание выговориться оказалось сильнее обиды, и он прислал мне записку в несколько строк в повелительном тоне, написанную таким почерком, что я едва смог его разобрать. Войдя в жилище своего друга, который так внезапно превратился в трясущуюся от страха горгулью, я ощутил холод страха, которым, казалось, были пропитаны все тени в полумраке этого дома. Слова и заверения, прозвучавшие здесь десять недель тому назад, словно бы пребывали где-то за пределами маленького круга света от свечи, и я вздрогнул при звуке глухого, изменившегося до неузнаваемости голоса Тиллингаста. Я попытался окликнуть прислугу, но он тут же заверил меня, что вся челядь покинула этот дом три дня тому назад, и это сообщение показалось мне зловещим. По меньшей мере странно, что старый и преданный Грегори оставил хозяина, даже не сообщив об этом мне, его давнему и проверенному другу. Именно от Грегори я узнавал, что происходило с Тиллингастом после того, как он в припадке гнева выдворил меня из своего дома.
Но постепенно мой страх вытеснялся возрастающим любопытством. Я мог только догадываться, чего именно хотел от меня Кроуфорд Тиллингаст сейчас, но не вызывало сомнений, что он обладал великой тайной, которой жаждал поделиться. Прежде я противился его неестественной жажде прорваться в непредставимое, а сейчас, когда он почти наверняка добился успеха, я готов был разделять его веру и последовать за ним куда угодно, хотя страшную цену этой победы мне еще предстояло осознать. Но пока что я следовал через мрачную пустоту дома за неярким желтым огоньком свечи в дрожащей руке этой пародии на человека. Электричество по всему дому было отключено, а когда я спросил почему, Кроуфорд ответил, что для этого есть веские причины.
– Это будет уже слишком… Я не осмелюсь… – бурчал он себе под нос. Это бормотание привлекло мое внимание, ибо раньше за ним не водилось привычки разговаривать с самим собой. Мы поднялись в мансарду, в лабораторию, и я снова увидел эту отвратительную электрическую машину, излучавшую жуткий, зловещий фиолетовый свет. Она была подключена к мощной химической батарее, но, похоже, сейчас не работала, поскольку не вздрагивала и не издавала устрашающих звуков, как это бывало раньше. На мой вопрос Тиллингаст пробубнил, что свечение, исходящее от машины, вовсе не электрическое в том смысле, как я это понимаю.
Он усадил меня возле машины так, что она находилась справа от меня, и повернул выключатель, расположенный под рядом стеклянных ламп. Послышались знакомые мне звуки, сначала напоминающие плевки, затем жалобный вой и наконец затихающее жужжание. При этом свечение то усиливалось, то ослабевало, и вскоре приобрело какой-то бледный, тревожащий цвет такого оттенка, который я не то что описать, а даже представить себе не могу. Тиллингаст, внимательно при этом наблюдавший за мною, усмехнулся, увидев мою озадаченность.
– Хочешь знать, что это? – прошептал он. – Это ультрафиолет. – Он удовлетворенно хмыкнул, заметив изумление на моем лице, и продолжил: – Ты полагаешь, что ультрафиолетовые лучи не воспринимаются зрением, и в этом абсолютно прав. Но сейчас ты можешь наблюдать их, как и многое другое, ранее недоступное человеческому глазу. Послушай, я объясню. Волны, излучаемые машиной, пробуждают в нас тысячи дремлющих чувств, выработанных эволюцией за бесчисленные тысячелетия от первых до последних шагов – от состояния свободных электронов до синтеза человека органического – и переданных нам по наследству. Я узрел истину и хочу открыть ее тебе. Желаешь ли ты узнать, как она выглядит? Я покажу тебе. – Тиллингаст опустился на стул напротив меня, задул свечу и тяжелым взором уставился мне в глаза. – Органы чувств, которые у тебя есть, в первую очередь уши, уловят множество новых, доселе неведанных им ощущений. Затем включатся другие. Ты когда-нибудь слышал о шишковидном теле? Этот жалкий эндокринолог вызывает у меня лишь смех – этот запутавшийся вконец человечишка, выскочка Фрейд. Я открыл, что это тело есть величайший из всех органов чувств, какие имеются у человека. Оно в чем-то подобно глазам и передает зрительную информацию непосредственно в мозг. Если у тебя с ним все в порядке, ты получаешь эту информацию в полной мере… я имею в виду образы из потустороннего.
Я окинул взором пространство мансарды с наклонной южной стеной, залитое особым светом, недоступным обычному глазу. Дальние ее углы были по-прежнему темны, и все помещение казалось окутанным дымкой загадочности, скрывающей его настоящий вид и увлекающей воображение в область символизма и фантазмов. Пока Тиллингаст молчал, мне представилось, что я нахожусь в каком-то огромном и удивительном храме давно забытых богов, далекие стены которого закрыты туманом, с бесчисленными колоннами черного камня, вздымающимися от влажных плит пола до заоблачной выси за пределами моего видения. Какое-то время я видел это даже вполне отчетливо, но постепенно это сменилось более жуткой концепцией: ощущением полного, абсолютного одиночества посреди бесконечного, невидимого и беззвучного пространства. Казалось, меня окружает лишь пустота и больше ничего, я ощутил, как на меня наваливается такой ужас, какого я не испытывал с самого детства; этот ужас заставил меня вытащить из кармана револьвер, который я постоянно ношу с собой по вечерам с тех пор, как на меня как-то напали в Восточном Провиденсе. Затем откуда-то из бесконечного удаления в пространстве и времени ко мне начал пробиваться какой-то звук. Он был едва различимым, слегка резонирующим и, вне всякого сомнения, музыкальным, но в то же время в нем были нотки какой-то исступленной дикости, изощренно истязавшие мое естество, как скрип гвоздя по стеклу. В то же время возникло ощущение чего-то вроде сквозняка, казалось, исходившего из того же источника, что и звук. Пока я, затаив дыхание, напряженно вслушивался, звук и поток воздуха усиливались, и внезапно я увидал себя привязанным к рельсам на пути приближающегося огромного локомотива. Но едва я заговорил с Тиллингастом, видение это мгновенно развеялось. Снова я видел только человека, уродливую машину и мрачное помещение. Тиллингаст непроизвольно оскалился, увидев револьвер, почти бессознательно вынутый мною из кармана, и по его лицу я понял, что он видел и слышал все то, что видел и слышал я, если не больше. Я шепотом пересказал ему свои впечатления, после чего он посоветовал мне стараться оставаться спокойным и внимательным.
Ознакомительная версия.