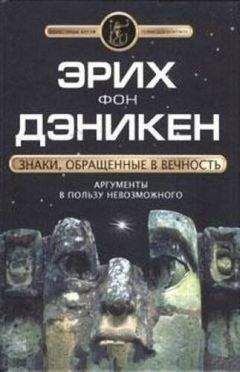Ознакомительная версия.
– Нет, – говорю я. – Это не важно.
Мне жарко, воздух наэлектризован до предела. Скорей бы пошел дождь, но его все нет. Гроза прошла стороной и разразилась в другом месте. Слышно только, как ветер свистит снаружи.
– Совершенно ясно, что вы невиновны, – говорит Ленцен. – Против вас нечего предъявить. И у вас нет мотива.
У меня не умещается в голове: мы тут сидим и обсуждаем, виновна я или нет.
– К тому же то, что вы не выходите из дома, это еще ничего не значит, – добавляет Ленцен.
– Что?
От ужаса у меня похолодели ноги.
– Какое это имеет значение?
– Естественно, никакого, – быстро говорит Ленцен.
– И все-таки?
– Ну, я же только что сказал.
– Ничего вы не сказали.
– Ну, некоторые полицейские, которые расследовали убийство вашей сестры, считают, что ваш… ваше затворничество, ну, чем-то… чем-то вроде искупления вины.
– Мое затворничество?
Мой голос дрожит от бешенства и отчаяния, и я ничего не могу с этим поделать.
– Я не удалилась от мира добровольно, я больна!
– Я же просто пересказал вам чужую точку зрения, сам я так не считаю. Но некоторые люди не верят в вашу странную болезнь, они трактуют ваше затворничество как покаяние убийцы. Считают, что этой изоляцией вы сами наказываете себя за преступление.
У меня кружится голова.
– Не надо было это вам рассказывать, – говорит Ленцен. – Но я думал, вы все это давно знаете. Это же просто сплетни, не более того.
Не могу вымолвить ни слова.
– Самое плохое – сомнение, – говорит Ленцен. – Тень сомнения всегда остается. И это хуже всего. Сомнение – оно как заноза, которую никак не вытащить. И ужасно, что из-за такой мелочи разрушаются родственные отношения.
Удивленно смотрю на него.
– Вы хотите сказать, что мои родные, мои родители считают меня убийцей?
– Что? Нет! Господи… Я не имел в виду…
Фраза так и остается незаконченной.
Спрашиваю себя, когда последний раз разговаривала с родителями по-настоящему, а не «привет-как-дела-нормально-пока». И не могу вспомнить. Ленцен прав. Родители отгородились от меня стеной.
И там, во внешнем мире, есть какие-то люди, которые, по словам Ленцена, считают меня убийцей сестры.
Вспоминаю, как нервничал Ленцен, когда пришел ко мне, и понимаю, в чем было дело. Его неуверенность проистекала не из чувства вины, наоборот, он спрашивал себя, насколько опасна эта безумная писательница.
Виктор Ленцен пришел ко мне не для того, чтобы взять интервью у всемирно известной писательницы, он пришел выяснить, не является ли эта эксцентричная особа убийцей.
Мы оба охотились за признанием убийцы.
Отвратительный жгучий комок зарождается у меня под ложечкой, поднимается к горлу и выскакивает наружу невеселым, неприятным смехом. Мне неприятно, больно, но я не могу остановиться. Смеюсь и смеюсь. Смех плавно переходит в рыдания. Меня одолевает страх, что я окончательно сойду с ума.
Мой страх – глубокий колодец, в который я упала. Погружаюсь, пытаясь ногами нащупать дно, но – ничего, один только мрак.
Ленцен смотрит на меня. Ждет, когда утихнет мой болезненный истерический смех. Остается только немая боль. Я подавляю последние всхлипы.
– Вы же должны меня ненавидеть? – спрашиваю я, когда снова могу говорить.
Ленцен вздыхает.
– Я был на войне, Линда. В бою. Видел людей после боя. Знаю, как выглядит человек, который понимает, что уже никогда ничего не будет как прежде. Видел пленных. Детей с оторванными конечностями. Я знаю, как выглядит глубоко травмированный человек. В вас что-то сломалось, Линда, я вижу это по вашим глазам. И мы не так уж сильно отличаемся друг от друга, вы и я.
Он умолкает, очевидно, что-то обдумывает.
– Пообещайте мне, Линда, что оставите меня в покое.
От стыда я едва могу говорить.
– Само собой, – бормочу. – Само собой.
– Если вы обещаете, оставить в покое меня и мою семью, если вы обещаете пройти курс лечения у психиатра, тогда… – какое-то мгновение он, похоже, колеблется, но все же принимает решение, – если вы мне пообещаете эти две вещи, тогда никто никогда не узнает о том, что здесь произошло.
Недоверчиво смотрю на него.
– Но…Что вы скажете в редакции газеты? – тихо спрашиваю я.
– Что вы себя не очень хорошо чувствовали. Интервью пришлось прервать. И оно больше не возобновится.
Я не могу этого вместить.
– Но почему? – спрашиваю я. – Почему вы так поступаете? Я заслуживаю наказания.
– Думаю, вы уже достаточно наказаны.
Смотрю на него. Он смотрит на меня.
– Можете вы мне пообещать эти две вещи? – спрашивает Ленцен.
Киваю. И говорю:
– Обещаю.
Получилось какое-то хриплое карканье.
– Надеюсь, вы сможете обрести покой, – говорит он.
Поворачивается и уходит. Слышу, как снимает в прихожей пальто с вешалки, заходит в столовую за пиджаком и сумкой.
Понимаю: он навсегда покинет мой мир, едва переступит порог. Понимаю, что больше его никогда не увижу, и ничего с ним не смогу сделать.
А что ты хочешь с ним сделать?
Слышу шаги Виктора Ленцена в прихожей. Слышу, как он открывает дверь. Стою на кухне и понимаю, что не могу его остановить. Дверь захлопывается за ним. Тишина огромной волной нахлынула в мой дом. Он ушел.
22
Дождь пошел только сейчас. Ветер бьет в окно кухни, словно хочет разбить его, снова и снова. Но скоро, утомившись, стихает и наконец прекращается совсем. Гроза превратилась в воспоминание, в блеклые молнии вдалеке.
Просто стою, опершись рукой о кухонный стол, чтобы не упасть, и пытаюсь вспомнить, как дышать. Каждый вдох приходится делать сознательно, организм перестал работать автоматически, приходится им управлять. Ни на что другое нет сил. Не думаю ни о чем. Долго стою, просто так.
Приходит идея – попробовать двигаться, и, удивляясь, что руки и ноги по-прежнему работают, ковыляю из кухни, по лестнице вверх, открываю дверь и обнаруживаю его. Он спит, но, стоит мне присесть рядом, тут же просыпается – сначала нос, потом хвост, потом весь. Он устал, но рад мне.
Извини, что разбудила тебя, дружище. Я не хочу быть совсем одна в эту ночь.
Свернулась калачиком рядом с ним, на полу, на его подстилке. Прижалась к нему, обняла, пытаясь согреться его теплом, но он вырывается, ему это не нравится, он же не кошка, ему нужна свобода, пространство, собственное место. Скоро Буковски снова засыпает и видит свои собачьи сны. Лежу одна, пытаясь ни о чем не думать, но через мгновение что-то животное посыпается в моей груди, и я знаю, что это, но пытаюсь ни о чем не думать, но думаю о Ленцене, о его объятиях, сильных, теплых, и в животе возникает ощущение свободного полета, и снова пытаюсь ни о чем не думать, но снова думаю о его объятиях, и чем-то животном в груди, что называется пугающим именем: страстная тоска. Понимаю, как я жалка, но мне все равно.
Понимаю, что дело не в Ленцене, и не его объятий я жажду, моя страстная тоска – она не по нему, она по другому, но мне нельзя о нем думать.
Ленцен всего лишь выпустил на волю болезненные воспоминания о том, как это бывает у людей, – взгляды, волнение, телесное тепло, не хочу об этом думать, но все равно погружаюсь в воспоминания. Но тут просыпается рациональная часть сознания и говорит мне: полиция может нагрянуть в любой момент.
Я понимаю, что совершила преступление, которое зафиксировано от начала до конца. Все эти микрофоны и камеры в моем доме. Я сама себе вырыла яму, полиция приедет и арестует меня. Что бы там ни говорил Ленцен, но когда он успокоится и поразмыслит, то обязательно позвонит в полицию. Но какая разница, где быть в одиночестве с этим комком тоски и страсти в груди – здесь или в какой-нибудь тюрьме.
И я ничего не делаю, не иду уничтожать записи, разбивать камеры, на которых беспощадно запечатлено мое безумие. Лежу в кровати и радуюсь, что сознание свободно от всего, что произошло в последние часы, поскольку знаю: там много такого, что способно уничтожить меня. И только я так подумала, вдруг всплывает в памяти голос Ленцена и его слова, хотя и сама я так думаю: «Самое плохое – сомнение. Тень сомнения всегда остается. И это хуже всего. Сомнение – оно как заноза, которую никак не вытащить. И ужасно, когда из-за этого разрушаются родственные отношения».
Думаю о родителях. О том, какими они стали после той страшной ночи и были все это время. Тихими. Словно кто-то убавил их громкость почти до нуля. И подчеркнуто осторожными со мной. Будто я стеклянная. Осторожными и… очень сдержанными. Формально вежливыми, как с чужой. Я пыталась трактовать это как чуткость, предупредительность, но в глубине души всегда понимала, что за этим стоит что-то другое, и до всякого Виктора Ленцена понимала, что это. Это – сомнение.
Ознакомительная версия.

![Эрих фон Дэникен - Боги майя [День, когда явились боги]](https://cdn.my-library.info/books/171732/171732.jpg)