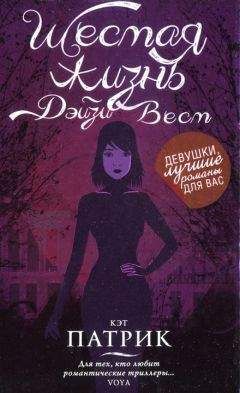Я, не задумываясь, подхожу, встаю рядом и беру его за руку.
Я не отрываю взгляд от гроба Одри. На Мэтта я не смотрю, но уверена, он делает то же самое. Руку он не отнимает; наоборот, держит крепко и не отпускает меня. Мы нуждаемся друг в друге.
Так мы стоим очень долго. Я и ее брат — и никаких лживых плачущих приятелей, прикидывающихся друзьями. Только сейчас я действительно начала понимать, как велика потеря. Я чувствую ее каждой клеточкой тела — от макушки до кончиков ног. Кажется, что-то гниет внутри меня, наполняя вены горечью, злобой и невыносимой тоской.
Тянет поговорить с Мэттом, о многом ему рассказать. Хочется рассказать ему, как мне жаль его сестру, и жаль, что «Воскрешение» на нее не подействовало. Я мечтаю сказать, что люблю его и что желаю забрать его боль и переложить на себя.
Но я не могу. Язык отказывается служить. Я не могу забрать его боль, потому что душа переполнена собственной болью и в ней просто больше нет места.
Как будто в ответ на мое состояние небо заволакивают тучи. В воздухе пахнет дождем. Выйдя из транса, я смотрю на небо.
Там ли ты, Одри? Я мысленно посылаю этот вопрос ей. Но ответа нет.
Потому что она мертва.
Мертва.
Я думаю о том, что значит это слово на самом деле.
Это не то же самое, что отсутствовать — как мои настоящие родители, или монахини, которые заботились обо мне, или люди в тех городах, где я жила раньше и которые покинула не по своей воле. Отсутствовать — это значит, можно вернуться, если захотеть. Но смерть, хоть мой опыт мне и подсказывает обратное, — это место, откуда возврата нет. И однажды я тоже умру навсегда. И тогда я буду, как Одри.
Не отсутствующей.
А покойной.
От этой мысли я начинаю дрожать, и Мэтт крепче сжимает мою руку.
Обернувшись, я понимаю, что мы одни. На кладбище, кроме нас, никого больше нет. Поворачиваюсь и смотрю на Мэтта.
Он смотрит на меня.
— Привет, — говорит Мэтт, как будто видит меня в первый раз. Взглянув вниз, на наши сцепленные руки, он улыбается и снова смотрит мне в глаза.
— Привет, — отвечаю я мальчику, с которым не хочу расставаться.
— Прости меня, — говорит Мэтт.
— И ты меня прости.
В конце концов мы уходим с кладбища и едем домой к Мэтту, всю дорогу храня напряженное молчание. У дома припарковано множество машин. Они везде: на подъездной дорожке, у входа, на другой стороне улицы и даже за углом. Мэтт находит крохотное местечко на улице и ставит машину туда. Остаток пути мы проделываем пешком. Оказавшись у крыльца, я стараюсь не смотреть на веселый маленький автомобиль Одри.
В доме полным ходом идут поминки. На каждой свободной поверхности стоят блюда с едой, а комнаты заполнены людьми в черной или темно-синей одежде, говорящими между собой приглушенным, уважительным тоном. Они как будто боятся разбудить мертвецов. Мне начинает казаться, что у меня в ушах вата: когда со мной кто-то заговаривает, приходится каждый раз переспрашивать.
— Что? — спрашиваю я Мэйсона, услышав, как он что-то бормочет, обращаясь ко мне.
— Я спросил, не голодна ли ты, — объясняет он, глядя на меня со смесью страха и тревоги.
— А, — говорю я.
В этот момент я о чем-то задумываюсь, а когда через пять секунд вспоминаю, что говорила с Мэйсоном, забываю, о чем думала. Его уже нет рядом, и неясно, ответила я на вопрос или нет. Может, он ушел за едой для меня, а может, просто ушел.
Стою на одном месте до тех пор, пока мне не начинает казаться, что я превратилась в соляной столб, тогда я делаю несколько движений лишь для того, чтобы убедиться, что меня не разбил паралич. Неожиданно понимаю, что Мэтт все это время был рядом, в нескольких шагах. Войдя в дом, мы разошлись, но отдалиться друг от друга не смогли: между нами словно протянулась невидимая нить. Очевидно, повинуясь ее тяге, я, почувствовав жажду, иду на кухню в поисках питья и обнаруживаю там Мэтта — он стоит возле холодильника, открыв дверь и изучая его содержимое. Вернувшись в гостиную, он садится на диван, а я смотрю на висящие на стенах фотографии. Потом я, почувствовав усталость, прислоняюсь к пианино, желая только одного — чтобы этот ужасный день наконец завершился, и Мэтт проходит мимо, легонько задев меня плечом. Я начинаю понимать: мы черпаем силы из единственного оставшегося у нас источника — из присутствия друг друга.
Когда Мэйсон подходит и говорит, что нам пора, Мэтт сидит на кирпичном уступе возле камина у стены напротив. Я даже не устала, это больше, чем усталость. Из меня словно выпустили воздух, и времени может быть сколько угодно — восемь часов вечера или полночь, — я бы не удивилась ни тому, ни другому в странном новом мире, обитательницей которого я стала.
Между нами пять метров, и мы с Мэттом продолжаем сидеть не шелохнувшись, глядя друг на друга и понимая, что прежде чем нам станет хотя бы чуть легче, будет еще хуже, чем сейчас.
— Ясно, — говорю я, не спуская глаз с Мэтта. Мы увидимся в школе, когда он выйдет на учебу. Но все будет уже не так. Уйти сейчас — значит распрощаться с прошлым, с беззаботными поступками и легкой жизнью.
Прощай, зимородок.
Глаза наполняются слезами, и я чуть ли не силой заставляю себя подойти к двери и завернуть за угол коридора. Все это время я продолжаю смотреть на Мэтта. Даже когда между нами оказывается стена, я продолжаю чувствовать его пристальный взгляд. Не понимаю, как ноги все еще могут слушаться меня, но они несут меня прочь, и, упав на заднее сиденье внедорожника Мэйсона, я незамедлительно проваливаюсь в сон, похожий на обморок. Мэйсон, поддерживая меня за талию, помогает мне войти в дом по прибытии, и я снова засыпаю, не сняв ни одежду, в которой ходила на похороны, ни даже обувь.
Через четыре дня я неожиданно просыпаюсь в четыре часа ночи. Сердце учащенно бьется, и я прислушиваюсь, надеясь понять, что меня разбудило.
Внизу происходит какое-то движение: звуки торопливых шагов двух пар ног раздаются то в одной части дома, то в другой.
Выскользнув из кровати, я бегу в лабораторию, чтобы узнать, что случилось.
— Ложись спать, — говорит Мэйсон, когда я спускаюсь в лабораторию. — Все в порядке.
— Что вы делаете? — спрашиваю я. Сердце уходит в пятки, когда я замечаю у его ног черный чемоданчик.
— Бог хочет, чтобы мы кое-что сделали, — говорит он. Вид у Мэйсона нерешительный, что для него нетипично. Кэйси качает головой, листая какую-то папку.
— Что это за бланки? — спрашивает она.
— Не уверен, что они нам пригодятся, — тихо говорит Мэйсон. — Как считаешь, сколько доз нам потребуется?
— Вряд ли мы используем больше трех, но давай на всякий случай возьмем пять.
— Что вы будете делать? — спрашиваю я.
— Произошла автомобильная катастрофа, — объясняет Мэйсон. — Мужчина возвращался домой после ночной смены. — Он произносит слова отрывисто, как человек, обдумывающий какую-то сложную задачу. — Вахтер. Автомобиль под списание. Бог хочет, чтобы мы оживили мужчину.
— Но состав не действует на взрослых, — поражаюсь я.
— Знаю, — говорит Мэйсон.
— Сейчас ночь, — продолжаю я.
— Знаю.
— И в вашем ведении находится только «автобусная группа»…
— Я знаю! — кричит Мэйсон, разворачиваясь на каблуках и сердито глядя на меня. Он зол, но что-то подсказывает мне, что его гнев на самом деле направлен вовсе не на меня. — Думаешь, я не понимаю, Дэйзи? Проект задумывался как нечто ответственное. Так не должно было быть. Мы даже не знали, что Бог работает над новой формулой. Нас ввели в курс дела только на этой неделе, когда прислали «Воскрешение II». А теперь он хочет, чтобы мы…
Мэйсон неожиданно обрывает речь на полуслове и громко вздыхает.
— Все будет нормально, Дэйзи, — говорит он. — Мы перехватили переговоры местных спасателей по радио. Они уже выехали. Если мы не приедем раньше, испробовать новый состав не получится.
Я слежу за тем, как Мэйсон вводит коды, необходимые для открытия чемоданчика с «Воскрешением», и за тем, куда движется его рука, чтобы выбрать пять пузырьков из пятидесяти. Я торопливо оглядываю ряды пузырьков с составом. Сорок девять из них принесут пользу погибшему вахтеру; один, наполненный водой, определенно нет. У меня поднимается температура. Не помню, какой из них я подменила. Кажется, где-то…
— Не бери отсюда, — выпаливаю я, не успев даже подумать. Рука Мэйсона замирает в воздухе. Они с Кэйси одновременно поворачиваются и смотрят на меня. Их лица трансформируются: сначала на них отражается замешательство, затем шок и, наконец, гнев.
— Почему? — спрашивает Мэйсон.
Я не отвечаю ему.
— Почему я не должен брать отсюда? — повторяет он.
Я стою, не шевелясь, и не произношу ни слова.
— Что ты сделала? — чуть ли не кричит на меня Мэйсон. Я начинаю пятиться. Он никогда не разговаривал со мной таким тоном.