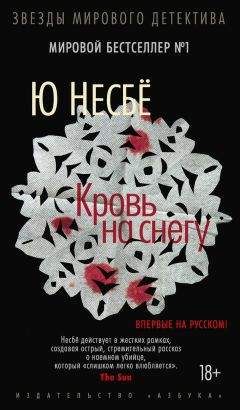Ознакомительная версия.
Они ходили кругами, не прикасаясь друг к другу, не разговаривая, как два электрона, отталкивающиеся друг от друга, потому что оба заряжены негативно. Однако в конце концов они скрылись за дверьми общей спальни.
Я улегся, но заснуть не смог.
Что заставляет нас понять, что мы смертны? Что происходит в тот день, когда мы узнаем, что наша жизнь закончится и это не возможность, а гребаный факт? Наверняка у всех бывает по-разному, но я все понял, когда увидел, как умирает мой отец – банально и физиологично, как муха на подоконнике. Поэтому интереснее другое: что заставляет нас уже после того, как к нам придет это понимание, вновь испытывать сомнения? Умнеем ли мы? Как писал один философ, Давид Как-его-там, если нечто происходит снова и снова, это не означает, что это нечто произойдет еще один раз. Без логических доказательств мы не можем быть уверены, что история повторится. Или же мы просто становимся старше и все больше боимся приближения смерти? Или здесь что-то совершенно другое? Как бывает в тот день, когда мы внезапно видим что-то, о существовании чего вообще не подозревали, или чувствуем нечто, что, как нам казалось, мы не способны чувствовать. Слышим гулкий звук, постучав по стене, и понимаем, что за этой комнатой может быть другая. И у нас появляется надежда, горькая и раздражающая надежда, грызущая изнутри и не оставляющая в покое. Надежда на то, что смерть можно обмануть и сбежать по темным переулкам в место, о существовании которого ты и не догадывался. Такая вот штука. Такая вот история.
На следующее утро я встал одновременно с Даниэлем Хоффманном. Когда он отъехал от дома, было еще темным-темно. Он не знал, что я здесь. Не хотел знать, как он сам сказал.
Так что я выключил свет и уселся на стул у окна в ожидании Корины. Я достал свои листочки и стал просматривать черновик письма. Сегодня слова были более непонятными, чем обычно, а те немногие, что я хорошо понимал, внезапно стали казаться неправильными и мертвыми. Почему я просто не выкинул все это дерьмо? Только ли потому, что я угробил уйму времени на составление этих несчастных предложений? Отложив листы бумаги в сторону, я наблюдал за небогатой на события уличной жизнью зимнего Осло до тех пор, пока наконец не появилась Корина.
День протекал практически так же, как и предыдущий. Она вышла на улицу, и я последовал за ней. С Марией я научился, как лучше всего незаметно идти за человеком. Корина купила шарфик в каком-то магазине, выпила чашку чая в кондитерской с женщиной, которая, судя по языку их тел, была ее подругой, а потом отправилась домой.
Было всего два часа, и я сварил себе кофе. Я смотрел, как Корина лежит на диване посреди комнаты. Она надела платье, другое платье. Ткань обволакивала ее тело, когда она двигалась. Этот диван – удивительный предмет мебели, ни то ни се. Когда она поворачивалась, чтобы улечься поудобнее, то делала это медленно, уверенно, осознанно. Как будто знала, что желанна. Она взглянула на часы и полистала журнал, тот же самый, что и вчера. А потом она слегка напряглась, почти незаметно.
Я не слышал звонка в дверь.
Она поднялась и пошла своей легкой, мягкой кошачьей походкой открывать дверь.
Он был темноволосым и худощавым, на вид – ее ровесником.
Он вошел в квартиру, закрыл за собой дверь, повесил куртку на вешалку, скинул ботинки движением, свидетельствующим о том, что он здесь не в первый раз. И не во второй. Никаких сомнений. В этом не могло быть никаких сомнений. Так почему же я сомневался? Потому что хотел?
Он ударил ее. Сначала я совершенно растерялся и подумал, что у меня обман зрения. Но он ударил ее еще раз. Сильно ударил по лицу ладонью. Голова Корины склонилась набок, и его рука вплелась в ее светлые волосы. Я видел по ее лицу, что она кричит.
Одной рукой он держал ее за горло, а другой срывал с нее платье.
Там, прямо под люстрой, ее обнаженное тело казалось таким белым, что оно сливалось в одну поверхность, у него не было форм, только непрозрачная белизна, как у снежной поверхности в тусклом свете облачного или туманного дня.
Он взял ее на том диване. Он стоял, спустив брюки до щиколоток, у стороны без спинки, а она лежала на светлой вышивке, представляющей девственно чистые, идеализированные представления европейцев о лесе. Он был тощим. Я видел, как двигаются мышцы между его ребер. Мускулы задницы напрягались и расслаблялись, как насос. Его трясло и колотило, как будто он злился, что не может сделать… больше. Она лежала, раскинув ноги, пассивно, как труп. Я хотел отвести взгляд, но не смог. Их вид пробуждал во мне воспоминания. Но я не мог понять какие.
Возможно, я вспомнил все той ночью, после наступления тишины. Как бы то ни было, мне приснилась фотография из книжки, которую я видел, когда был мальчишкой. «Царство животных 1: Млекопитающие» из Дейкманской библиотеки. На фотографии была изображена саванна Серенгети в Танзании, вроде бы так. Три злобные, тощие, возбужденные гиены, которые то ли принесли собственную добычу, то ли отогнали от дичи львов. Две гиены с напряженными задницами засунули морду во вспоротое брюхо зебры. Третья повернулась к фотоаппарату. Голова ее была перемазана кровью, она скалилась, показывая острый ряд зубов. Но лучше всего я помню взгляд. Взгляд желтых глаз, направленных в объектив и глядящих с книжной страницы. Предупреждение. «Это не твое, это наше. Уходи отсюда. Или тебя мы тоже убьем».
Стоя позади тебя в метро, я всегда дожидаюсь, когда наш вагон доедет до стыка рельсов, и лишь тогда начинаю говорить. Или, может быть, в этом месте рельсы расходятся. Так или иначе, это место расположено глубоко под землей, где металл звенит и гремит от соприкосновения с металлом, и этот звук что-то мне напоминает, что-то связанное с порядком, с расстановкой вещей по своим местам, с судьбой. Поезд резко толкает, и люди, которые не каждый день ездят по этой ветке, на какой-то миг теряют равновесие и начинают хвататься за все подряд, пытаясь удержаться в вертикальном положении. Проезд по стыку рельсов производит такой шум, что я могу говорить все, что захочу. Шептать, что хочу. Именно в том месте, где никто другой не сможет меня услышать. Ты, во всяком случае, услышать меня не можешь. Только я сам могу себя услышать.
Что я говорю?
Не знаю. Что в голову придет. Слова, взявшиеся неизвестно откуда, слова, которые я и не собирался говорить. А может, и собирался, в то время и в том месте. Потому что ты красивая, ты тоже красивая, особенно когда я стою в толпе прямо у тебя за спиной и вижу лишь узел твоих волос, а все остальное должен себе воображать.
Но я не могу вообразить ничего, кроме того, что у тебя темные волосы, потому что они и на самом деле темные. Ты не светловолосая, как Корина. У тебя не такие пухлые губы, чтобы их хотелось укусить. В изгибе твоей спины и округлости грудей нет музыки. Ты была моей до сих пор только потому, что никого другого у меня не было. Ты заполняла пустоту, о наличии которой я даже не догадывался.
В тот день, сразу после того, как я выручил тебя из беды, ты пригласила меня домой на ужин. Я полагаю, ты сделала это в качестве благодарности. Ты написала приглашение на бумажке и протянула ее мне. Я согласился, хотел написать тебе ответ, но ты улыбкой ответила, что все поняла.
Я так и не явился.
Почему?
Если бы я знал ответ на подобные вопросы…
Я – это я, а ты – это ты? Может быть, так.
Или же все еще проще? Ты хромая и глухонемая. У меня и самого в каком-то смысле несчастий хватает, ведь, как я уже упоминал, я не гожусь ни для чего, кроме одного дела. И что бы, черт возьми, мы сказали друг другу? Ты бы, конечно, предложила писать друг другу сообщения, а я, как уже говорилось, писать не мастак. А если я этого еще не говорил, то говорю сейчас.
И возможно, ты понимаешь, Мария, что мужчине сложно будет завестись, когда ты резко и пронзительно, как это делают глухонемые, рассмеешься над тем, что в своей записке «какие у тебя красивые глаза» я сделал четыре ошибки.
Ну да ладно. Я не пришел. Вот как обстояло дело.
Даниэль Хоффманн хотел знать, почему я тяну с выполнением задания.
Я спросил, согласен ли он, что до того, как я начну, мне следует позаботиться, чтобы ни один след не смог привести ни к кому из нас. Он был согласен.
И я продолжил слежку за его квартирой.
В последующие дни юноша приходил к ней каждый день в одно и то же время, в три часа дня, сразу после наступления темноты. Входил, раздевался, бил. Всякий раз одно и то же. Сначала она прикрывалась руками. По напряжению мышц ее рта и шеи я понимал, что она кричит, просит его прекратить. Но он не прекращал. Не прекращал до тех пор, пока по щекам ее не начинали литься слезы. Тогда, и только тогда, он начинал срывать с нее платье. Каждый раз новое платье. А потом он брал ее на диване. Было понятно, что он имеет над ней власть. Я мог бы сказать, что она по уши в него влюблена. Как Мария в своего торчка. Некоторые женщины сами не знают, что для них лучше, они просто изливают свою любовь, не требуя ничего взамен. Да, как будто именно отсутствие взаимности разжигает их еще больше. Наверное, они, бедняжки, продолжают надеяться, что в один прекрасный день будут вознаграждены за все. Полная надежды безнадежная любовь. Кто-то должен им рано или поздно объяснить, что мир устроен совсем не так.
Ознакомительная версия.