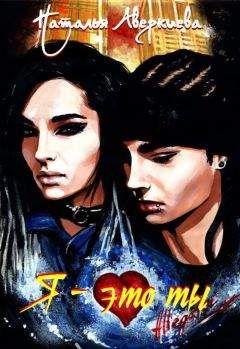С Гобеленом не случилось ничего подобного, зато случились с обоими лидерами. Одна из лошадей начала уклоняться с прямой под большим углом.
Вторая, казалось, вот-вот остановится. К моему глубокому изумлению и к удивлению всех прочих участников, я с бешеной скоростью промчался мимо них ровным галопом и выиграл Золотой кубок.
Меня нисколько не волновало, что все скажут (и действительно говорили), что, если бы оба фаворита не упали, у меня не было бы ни малейшего шанса. И мне было плевать, что в историю скачек этот заезд войдет как "плохой" Золотой кубок. Я пережил минуты высочайшего блаженства, пока проделал неблизкий путь от финишного столба до паддока, где расседлывают победителей. Наверное, на свете нет ничего, что способно сравниться с этим ощущением полного счастья.
Это было невероятно... и это произошло. Бухгалтер миссис Лонгерман принес ей кругленькую сумму, не подлежащую налогообложению.
Следующий час прошел как в тумане. Я переоделся в свою повседневную одежду. Шампанское текло рекой в весовой, и все, чьим мнением я дорожил, хлопали меня по плечу. Я был настолько счастлив, что мне хотелось бегать по потолку, хохотать во все горло и ходить колесом. Поздравления, представления, слезы радости Мойры Лонгерман, недоверчивое замешательство Бинни все смешалось воедино; мне еще предстояло разобраться во всем этом позже. В тот момент я упивался славой, которая дурманит пуще опия.
В самом разгаре празднества в честь героя дня появился какой-то человек в форме санитара "Скорой помощи" из больницы Сент-Джон. Он искал меня.
– Вы Рональд Бриттен? – спросил он.
Я кивнул, поднимая бокал с шампанским.
– Один жокей хочет вас видеть. Он в машине "Скорой помощи". Заявляет, что не поедет в госпиталь, не поговорив с вами. Он очень взволнован.
Вам лучше было бы пойти.
– Кто он? – спросил я, поставив свою выпивку.
– Бадли. Упал во время последней скачки.
– Он серьезно ранен?
– Перелом ноги, – сообщил санитар.
– Чертовское невезение.
Мы вышли из весовой и пересекли запруженную народом бетонированную площадку, направляясь к машине "Скорой помощи", которая стояла в ожидании прямо за воротами. До последнего забега на сегодняшних скачках осталось пять минут, и тысячи людей лихорадочно суетились вокруг, пробиваясь к трибунам и торопясь сделать последние ставки. Санитар и я двигались во встречном потоке тех, кто стремился добраться до стоянки машин раньше, чем начнется еще большее столпотворение.
Я не представлял, зачем Бобби Бадли хотел меня видеть Его последний годовой отчет находился в полном порядке, и мы уже подписали его у налогового инспектора. У него не могло быть никаких неотложных проблем. Мы, приблизились к задним дверям кареты "Скорой помощи", санитар распахнул их и сказал:
– Он внутри.
Маловата машина для "Скорой помощи", подумал я, забираясь в кузов.
Она больше походила на обычный белый фургон, высоты которого явно не хватало, чтобы встать во весь рост. Я предположил, что в дни скачек в больнице недостает штатных машин.
В кузове находились носилки, на них лежал человек, укутанный одеялом.
Я сделал шаг к нему, согнувшись в три погибели под низкой крышей.
– Бобби? – позвал я.
На носилках лежал не Бобби. Это был некто, кого я никогда прежде не видел: молодой, проворный и без единой царапины. Он вскочил, резко отбросив одеяло, взметнувшееся серым облаком.
Я повернулся, намереваясь уйти, и обнаружил, что санитар забрался в фургон и стоит у меня за спиной. Двери за ним были уже закрыты. Выражение его лица не отличалось дружелюбием, и как только я попытался оттолкнуть его с дороги, он пнул меня в голень.
Я снова повернулся. Лежащий "больной" вскрывал пластиковый пакет. Его содержимое напоминало комок влажной ваты величиной с ладонь. Санитар крепко схватил меня за одну руку, а раненый за другую; я отчаянно боролся и вырывался, но общими усилиями им удалось прижать кусок влажной ваты к моему носу и рту.
Очень трудно одержать верх в драке, когда вы не в состоянии выпрямиться и с каждым вдохом втягиваете в себя чистый эфир. Последнее, что я увидел в сереющем мире, это как упала с головы санитара форменная шапочка.
Его светло-каштановые волосы рассыпались в беспорядке, повиснув спутанными космами, превратив его из ангела милосердия в обыкновенного негодяя. Мне доводилось один-два раза покидать ипподром на носилках, но крепко спящим я это делал впервые.
***
Очнувшись в грохочущей темноте, я не мог уразуметь смысл всего происходящего.
Зачем они схватили меня? Имеет ли похищение какое-либо отношение к выигрышу Золотого кубка? А если так, что дальше?
Мне показалось, что я замерз еще больше, и меня тошнило все сильнее.
Внешний шум – скрип и шорохи – стал громче. К тому же теперь появилось смутное ощущение движения. Однако я ехал не на грузовике. Где же я? В самолете?
Внезапно до меня дошло: тошнота никоим образом не связана с тем, что я надышался эфира, как я предположил вначале. Она являлась симптомом хорошо знакомого недомогания, которым я периодически страдал с детства. Меня укачивало. На корабле.
Я понял, что лежу на койке. Сетка, туго натянутая с правой, открытой стороны, не давала мне упасть. Загадочный шорох издавали волны, омывая борта судна. Мощные двигатели проталкивали тяжелый корпус сквозь плотную массу воды, от чего возникали разнообразные скрипы и потрескивание.
Я испытал немалое облегчение, получив смутное представление об окружавшей меня действительности. Я снова мог ориентироваться в пространстве и мысленно оценить свое положение. Прояснилась та часть этой таинственной истории, что ставила меня в тупик больше всего; с другой стороны, я острее почувствовал физический дискомфорт. Холодно. Руки привязаны к ногам. Мышцы затекли без движения. Я знал, что нахожусь на корабле, и знал также, что на кораблях меня всегда укачивало. От этой мысли меня тотчас замутило еще сильнее.
Неведение – величайший транквилизатор, подумал я. Сила боли зависит от того, сколько внимания ей уделяют; человек, встречаясь и разговаривая с другими людьми при свете дня, не испытывает и половины тех мук, что поджидают его, когда он остается в одиночестве и в темноте. Если бы сейчас кто-нибудь вошел и поговорил со мной, возможно, я перестал бы замечать холод и ужасную тошноту и не чувствовал бы себя таким несчастным.
Прошло, наверное, целое столетие. Никто не появлялся.
Качка усилилась, а вместе с ней – и мое недомогание. Корабль явственно бросало то вверх, то вниз, его нос попеременно вздымался или зарывался в волны, и соответственно поднимались или опускались мои ноги и голова. Кроме того, мое тело слегка перекатывалось из стороны в сторону.
Мы в открытом море, беспомощно думал я. На реке не бывает такого сильного волнения.
В течение некоторого времени я пробовал улучшить себе настроение, припоминая забавные замечания типа: "Принудительно завербован во флот, Господи!", и "Опоен и увезен на судно матросом!" и "Джим, дружок, одноногий Джон Сильвер поймал тебя". Я потерпел сокрушительное фиаско.
Вскоре я оставил попытки вычислить, по какой причине я туг оказался.
Я больше не испытывал страха. Я перестал реагировать на холод и прочие неудобства. Меня занимало лишь одно: как бы меня на самом деле не стошнило.
Меня спасало только то, что я с утра ничего не ел.
Завтрак?.. Я утратил представление о времени. Я не знал, как долго находился без сознания и как долго пролежал в темноте с тех пор, как очнулся, но пробыл в беспамятстве достаточно долго, чтобы меня успели привезти из Челтенхема на побережье и переправить на борт корабля. И я пробудился уже достаточно давно, чтобы мне снова захотелось спать.
Мотор заглох. Внезапно наступившая тишина была восхитительна. Только теперь я в полной мере осознал, как изнурителен оглушительный шум. Я по-настоящему испугался, что он начнется опять. Может, это метод психологической обработки?
Вдруг где-то над головой послышался другой шум: как будто что-то тащили. Потом раздался металлический лязг, а затем сверху упал ослепительный луч дневного света.
Я вздрогнул и зажмурил глаза, привыкшие к потемкам, потом осторожно открыл их. Луч превратился в квадрат света. Кто-то открыл надо мной люк.
Свежий воздух хлынул внутрь, словно душ, холодный и влажный. Без особого воодушевления я оглянулся вокруг и сквозь крупную белую сетку увидел тесное помещение.
Койка, на которой я лежал, сужалась в ногах, боковые стенки каюты сходились под острым углом, подобно наконечнику стрелы. Ширина койки равнялась примерно двум футам, над ней нависала другая, точно такая же. Я лежал на матрасе, застеленном простыней темно-синего цвета. Большую часть каюты занимали два встроенных деревянных лакированных рундука с откидными крышками. Я решил, что они предназначены для хранения парусов. А значит, я находился в парусном отсеке судна. Дверь за моим правым плечом, в настоящий момент крепко запертая, по-видимому, вела в каюткомпанию – к теплу, к жизни.