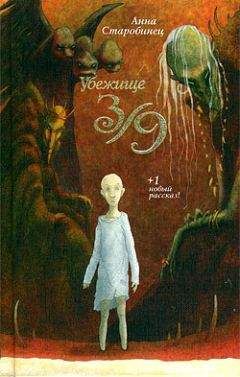Ознакомительная версия.
Он снова поднял ее и снова – пыхтя, исходя паром, высунув от напряжения два длинных шершавых языка, – попытался пристроить на место той, отрубленной. Безрезультатно.
Повторив все эти манипуляции еще пару раз, Трехголовый тяжело вздохнул и сказал:
– Нет. Не держится. Лучше уж я верну ее тебе.
Он подошел к Маше, продолжавшей неподвижно стоять напротив, и осторожно приладил голову на прежнее место.
Боль сначала появилась в шее – острая, невыносимая, а потом назойливым сверлом воткнулась в мозг. Маша застонала и открыла глаза, но не увидела ничего, кроме пульсирующей, искрящейся тьмы.
– Я все равно не смогу так жить, – услышала она голоса Трехголового. – Это будет не жизнь, а мучение. Убей меня, Маша. Там, у тебя под ногами, – меч или что-то вроде того. Убей меня. Пожалуйста.
Неуверенно взявшись рукой за перила, Маша осторожно присела на корточки и другой, свободной рукой стала шарить перед собой. Нащупав, наконец, еще теплую рукоятку меча, она подняла его, размахнулась и наугад полоснула воздух.
Глухое тук. Тук. Два тяжелых предмета упали на мост. Потом что-то заскрипело – и стало тихо.
Зрение вернулось не сразу. Сначала перед глазами возникло какое-то бледное расплывчатое пятно. Маша уцепилась взглядом за это пятно, прищурилась и долго смотрела на него – пока пятно не оформилось в большой, желтый, почти идеальный круг с отколотым слева кусочком. Пока на нем не проступили рыжие кляксы лунных морей и океанов. Пока оно не осветило все вокруг.
Трехголовый стоял на задних лапах, задумчиво облокотившись на перила моста. В вытянутых передних лапах он держал свои отрубленные головы. Они, не мигая, смотрели друг на друга. И время от времени испуганно косились вниз, на черную неподвижную воду.
Он простоял так долго. Очень долго. А потом головы вдруг скривились в странной гримасе, зажмурились – и Трехголовый разжал пальцы.
Плюх. Плюх.
Трехголовый постоял еще немного. Потом вцепился когтями в перила и замолотил хвостом, безуспешно пытаясь подтянуть свое грузное тело. Два раза он неуклюже заваливался на мост, дрыгал лапами, как опрокинутый на спину майский жук, снова поднимался. На третий ему, наконец, удалось перевалиться через перила. Он тяжело рухнул в реку, обдав Машу фонтаном ледяных черных брызг.
Когда исчезли круги на воде, когда вода снова стала блестящей и льдисто-гладкой, Маша почувствовала, что боль в голове стихает. Превращается в густое и мягкое, точно пар, тепло.
Она еще немного посмотрела на воду, а потом улеглась прямо на влажный мост. Стоять больше не было сил.
– Поспи, если ты устала, – раздался знакомый голос. Тот самый голос.
Маша подумала, что за все время, проведенное на мосту, она действительно ни разу еще не спала.
Она закрыла глаза – и ничего не стало.
Совсем ничего.
X. Путешествие
Я устал. Господи, как я устал. От этих домов, поездов, автобусов. От этих вокзалов, огромных и душных. От висящих под самым потолком черных табло, на которых высвечиваются зеленые и желтые буквы, такие большие, что я не всегда могу их прочесть. От человеческих ног, готовых меня раздавить, от человеческих рук, смахивающих меня на землю. От этих корзин, рюкзаков, тележек и сумок, в которых я переезжаю с места на место, то продвигаясь к цели, то возвращаясь обратно. От этих людей, которые по дороге ссорятся или мирятся, и вдруг изменяют свой маршрут, и выскакивают из поезда раньше, чем собирались, и выбрасывают свои пакеты в мусорные корзины…
Я устал. Но скоро все кончится. Хорошо, что меня занесло в Геную.
Здесь есть порт.
Уже почти вечер. Я ползу туда, к морю, – через вонючие каменные трущобы, через лабиринты дворов-колодцев, которые, впрочем, не могут запутать меня: я чувствую, где вода.
По узким сырым переулкам, гогоча и перекрикиваясь, гоняют придурковатые подростки на скутерах и черных разбитых мотоциклах. Иногда они останавливаются и весело переговариваются с полуголыми старыми тетками, сидящими на ступеньках в ожидании клиентов. Потом с ревом уносятся прочь, а тетки что-то беззлобно шипят им вслед.
Чтобы не раздавили, я стараюсь ползти по стенам или бельевым веревкам. Белья здесь удивительно много. Чем грязнее и мрачнее переулок, тем больше они стирают.
Повиснув на какой-то детской распашонке, я пью сочащуюся из волокон ткани влагу – и вдруг слышу злобные женские крики.
Всклокоченная феллиниевская блядь, грудастая, потная и пьяная, едва прикрытая чем-то воздушно-золотистым, орет на кого-то низким прокуренным голосом. Я переползаю на другую сторону распашонки и теперь вижу, на кого именно. На другой стороне улочки, вжавшись в серую каменную стену, стоит жизнерадостный очкастый парень, явно не местный, с разноцветным рюкзачком через плечо. Он энергично жует жвачку, улыбаясь и чавкая, и целится в шлюху из своего навороченного кэнона.
– Отдай мне эту чертову пленку и катись отсюда! – орет итальянка.
– Извините, – откликается парень по-английски и глупо скалится. – Я просто сфотографирую вас, о’кей?
Судя по выговору, он американец. Вид у него довольно дебильный, и итальянского он явно не понимает.
– А ну катись отсюда! – визжит шлюха, сдергивает со своей голой загорелой ноги золотистую босоножку и швыряет в него.
Промахивается.
– Пабло! – кричит она кому-то и поднимается, пошатываясь. – Пабло, быстрее сюда!
– О, мне так жаль, мне так жаль, – причитает очкастый, наклоняясь за босоножкой. – Не волнуйтесь, я вас просто фотографирую.
Парень возвращает ей босоножку, отходит на шаг, наводит на резкость и щелкает. Она снова швыряет босоножку и на этот раз попадает ему в ляжку. Он глупо улыбается. Она указывает длинным коричневым пальцем на фотоаппарат и хрипло выкрикивает:
– В последний раз тебе говорю: отдай пленку и катись отсюда, ублюдок!
– О, это просто фотография, о’кей? Совсем ничего опасного, не волнуйтесь. Я фотограф. Это мой фотоаппарат.
Он, верно, думает, что она принимает его фотоаппарат за духовое ружье, и в этом вся проблема.
– Пабло-о-о! – снова голосит женщина.
Из-за угла с ревом выруливает на мопеде чернявый накачанный верзила. За ним еще двое точно таких же. У всех у них перекошенные злобные рожи и кто-то из них, без сомнения, Пабло.
– Этот придурок меня фотографирует. Наверное, уже целую пленку отщелкал, – она указывает на очкастого пальцем, всхлипывает и размазывает тушь и золотистые блестки по своей сморщенной физиономии.
Верзилы слезают с мопедов, медленно, вразвалочку приближаются к нему. Парень перестает улыбаться и снимает очки.
– Ну-ка, давай сюда эту штуку, – говорит один из верзил – тот, что появился первым, – и протягивает руку к фотоаппарату; в другой руке у него перочинный нож.
Парень судорожно сглатывает, что-то лопочет жалостливо и невнятно, но фотоаппарат отдает.
– Грация, – скалится верзила и несет фотоаппарат к своему мопеду.
Потом садится на ступеньки рядом со шлюхой, уже успевшей успокоиться, и закуривает. Остальные двое молча и сосредоточенно бьют парня ногами.
А я тем временем подползаю по бельевой веревке к его мопеду, выдавливаю из себя тонкую паутинку, спускаюсь вниз и заползаю под седло.
Наверное, дело в фотоаппарате. Так-то мне, в общем, все равно. Плевать мне на их разборки. Плевать, что трое на одного. На все плевать.
Наверное, дело в том, что человек с фотоаппаратом всегда вызывает у меня что-то вроде симпатии – даже если он полный придурок.
Наверное, дело в моей бывшей жене – она бы тоже бросилась снимать эту шлюху, сочтя ее «фактурной» и «колоритной».
Наверное, дело в том, что во мне скопилось слишком много прозрачной едкой злобы, и она мешает мне ползти дальше.
Наверное, поэтому я и уезжаю с этим Пабло или как его там, забравшись под седло его мопеда, все дальше и дальше от моря. А когда он останавливается на каком-то перекрестке и встречный ветер не может меня сдуть, я вылезаю из своего укрытия, жалю его прямо в зад и ползу прочь. Он раздраженно почесывается. Мне становится легче.
Через пару минут он почувствует острую боль в месте укуса. Потом эта боль разольется по всему телу. Он слезет со своего мопеда и станет бегать вокруг, обливаясь холодным потом. Потом у него онемеют ноги, и он упадет. Боль сконцентрируется в области живота, и брюшные мышцы станут твердыми, как поленья. Потом судороги, удушье и кома. Его отвезут в больницу, но лекарства ему не помогут – вряд ли врачи сразу же разберутся, что с ним. Да даже если и разберутся, что толку от их лекарств? Этому Пабло мог бы помочь разве что черный баран, который высосал бы укушенное мной место. Но никто не приведет ему в больницу барана.
Через несколько часов он умрет.
Уже глубокой ночью я приползаю в порт. Кажется, здесь какое-то празднество. Толпы людей стоят на берегу. Музыка звучит так громко, что бетонные плиты, по которым я ползу, гудят и содрогаются. Гирлянды разноцветных огней протянуты между мачтами пришвартованных у берега яхт. Они похожи на огромную светящуюся паутину.
Ознакомительная версия.