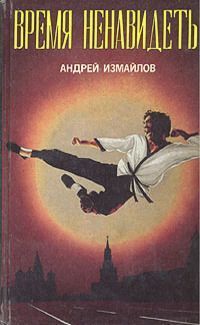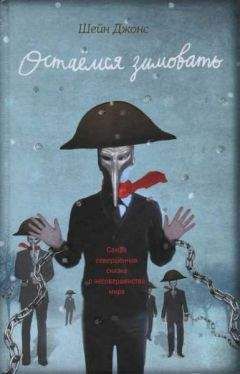– По головке гладили? Хорошо, мол, валандаетесь? Да?
– Чего-о?!. А, брось, Гребнев! Л-любитель и есть!.. Глянь лучше, что сокурсник бывший прислал! – И Пестунов зарывался в папку, в свой «маразмарий», бурчал: – Ему вообще облом! В многотиражку влип! Вагоноремонтный завод, а свою двухполоску имеет. Ага, вот! Читай! Ты заголовок читай! «Главный двигатель плана – исправные тормоза!» – и ронял в усы мрачный смешок.
Гребневу было любопытно, но неинтересно. А вот выискивать в человеке, о котором рассказывал, нечто – было интересно. «Это пройдет!» – обещал Пестунов.
Вероятно. Но пока не прошло. И не надо. Пока Гребнев не жалел, что пошел. Эх, если бы еще не злополучный полет с лестницы!.. А с другой стороны: месяц отдыха, сказал врач? Можно спокойно подумать, не гнать строку. Парин над душой виснуть не будет: «Вы что, только очерк за целый месяц сдали? Один только очерк?!». Вот только сессия… Что-то вызова нет и нет. А если придет, то куда Гребнев на костылях?
Мда, проблема на проблеме, но одно очевидно – с юбилеем Гребневу повезло! Надо же, какой мельник! Какая биография! И никто не докопался! Понятно – далеко, глухо. Мы ленивы и нелюбопытны: ну, мельница! ну, речка Вырва! ну, сто пятьдесят строк на четвертую полосу!..
Ну, уж не-ет!
***
А без костылей, оказывается, никуда. Вот ведь, выяснилось, еще одна проблема! Где их доставать? И как? На одной-единственной прыгаючи.
В травматологическом пункте улыбчивая, бодренькая врачиха только бодренько улыбнулась:
– Я врач, а не снабженец. Сами мучаемся. Я вам сейчас нашу машину вызову, а дальше уж… В аптеку попробуйте позвонить. Или у знакомых…
Дефицит, надо же!
Хорошо, что Валентина внезапно наведалась по телефону:
– Ал-ле! Ну, как ты там?
У Валентины за целый год совместного с Гребневым существования выработалась такая привычка – звонить и узнавать «как он там?». Хотя они уже две недели не виделись после того, как… Словом, не виделись. И Гребнев убеждал себя, что и не увидятся. Но слышал он ее часто. Привычка у Валентины сохранилась. И Гребневу, ну, совершенно безразлично, кому она теперь звонит, только по инерции через раз старый номер набирает и сразу:
– Ал-ле! Ну, как ты там?
– Что со мной сделается! – регулярно отвечал Гребнев в нейтрально приятельской тональности.
Тут Валентина соображала, сдавленно хихикала и делала вид, что никакой ошибки, что Гребнев-то ей и нужен. Хотя весь скорострельный диалог раз от разу сводился к: «Все в порядке?» – «Все!» – «Ну, хорошо!» – «Да уж, куда лучше!». Действительно, расстались и расстались: не сквозь зубы же теперь говорить. Потом она вешала трубку и, вероятно, набирала другой номер уже правильно. Или в последнее время усвоила манеру – первой голоса не подавать, пока не услышит гребневское «Да-а?». И тут же – отбой. Мало ли еще ошибочных соединений.
Вот и на этот раз ее палец машинально набрал его номер, и она машинально:
– Ал-ле! Ну, как ты там?
– Да не особенно! – нарушил Гребнев однообразие реплик.
После привычного короткого смешка она вдруг осмыслила:
– То есть как это?
Вот так. Коротко, не посвящая в детали: связку надорвал. Каким образом?! Никаким! Порвал и порвал!
– Я так и знала!
Что, интересно, она знала?!
… Она вообще все знала заранее. Она знала, что Гребнев от нее никуда не денется. Как увидела год назад, так и… Ни-ку-да не денется!
– Смотрю, – говорила ему потом, – такой мужик! И не мой! Все! Будет мой! Такой мужик!
– Да какой – такой?!
– Уж мне лучше знать!
Валентине очень сильно стукнуло за тридцать, и ей было лучше знать.
Сорокашки, толковала она, выпятив губу, – сорокашки и есть! (Надо же, слово какое слепила!) Тоже мне, ровесники! – толковала она. – Как в школе: несоответствие полное между видимостью и сутью. Больше говорят, чем могут. Пыжатся, гонорятся! Мы еще ого-го, горы можем свернуть!.. А если до сорока не свернул, то уже не свернешь. Ни в постели, ни в карьере. В сорок решать поздно, да и не хочется ничего решать. Семью создать? Если до сих пор не создал, то так и плывет: а зачем? и без семьи неплохо! А если семейный, то тем более. Способен только на удрученные мужские сжатые челюсти, когда о своих речь заводит. И расстаться этим сорокашкам никак, даже если обрыдло. Как же можно расстаться, аргументируют: сыну скоро шестнадцать, какими глазами он на отца смотреть будет!.. Шкодить и кобелировать еще могут с натугой, но решать – уже нет. Мышцы пружинят и в волейбол мячи рискованные режут молодечески, а больше ни на что не способны! Сорокашки, одно слово!
Вот если ему за пятьдесят, толковала она, то другое дело! Он созрел, уже чего-то достиг, и видно – чего.
Здесь не ошибешься: не выбирать же среди пятидесятилетних еще и неудачника! Нет, конечно, удачника надо выбирать! Он и не должен уже никому ничего: если есть дети, то им уже под тридцать – свои проблемы решают; если есть жена, то она уже… на закат – и довольно снисходительно к приключениям мужа относится. Впрочем, морока это – нацепить себе пятидесятилетнего с нагрузкой! Нет, оптимальный вариант – без нагрузки, крепко стоит на ногах, своего добился и… седина в бороду, никакие сорокашки в подметки не годятся.
Или – чтобы тридцать… с небольшим, толковала она. Эти, если и хорохорятся, то у них и время есть, чтобы допрыгнуть. И энергии еще с избытком. Разной! Даже если с прицепом – не страшно. Разведенный, к примеру. Значит, так: бывшая жена – безусловная змеища, а детей он у нее непременно отсудит и воспитает как надо. Главное, не разубеждать его в этом. Все равно не отсудит! Ей ли, юристу, не знать! Ни одного случая за пятнадцатилетнюю практику. А потом, со временем, он своим умом дойдет, что – дохлый номер. Перегорит и решит, что надо начинать все сначала. Вот такому на самом деле как раз время: все сначала. Опыт есть, и – какие его годы!
Так Валентина толковала регулярно, и Гребнев регулярно накалялся тихой яростью, отдавая себе отчет: ее богатые теоретические рассуждения скорее всего базируются на не менее богатой практике. Но не задавал вопросов: что было раньше? кончилось ли все, что раньше? не будет ли впредь? Обидеть боялся, что ли… Но ярился бесконтрольно.
Она знала, определяла эту тихую ярость. И тем не менее, а скорее, именно поэтому и продолжала толковать, провоцируя.
– Вот! – говорила Валентина, поймав пик. – Вот такой ты первый раз и пришел! – Обезоруживала: – Все, думаю! Будет мой! И больше ничей!
– …Он пришел тогда к заведомому врагу: кто же ему юрисконсульт, как не враг?! Все они заодно, да! И Сельянов, начальник МСУ! И Шахов! И юристка эта – ноги, как на колготных пакетах; лицо… модное, с тяжелыми веками, с глазами умными, скулами тугими. А тут и большого ума не надо! С одной стороны – простой бригадир монтажников, с другой – заместитель главного инженера по технике безопасности и целый начальник МСУ!
– Я, как заместитель главного инженера по технике безопасности, настаиваю!.. – перекладывал на Гребнева Шахов.
– Так-так! – однозначно сопел Сельянов, как будто не было гребневских докладных, как будто не было гребневского ультиматума еще за три недели до: «Я не допущу своих людей на объект! Вы там перекрытия видели?! Пусть Шахов сам под ними работает, а угробится – туда ему и дорога!».
– Было, было грубейшее нарушение техники безопасности! У него двое без касок работали! И без касок! – продолжал перекладывать Шахов на Гребнева.
– Так-так! – сопел Сельянов и тормозил Гребнева: – Что ты горячишься? Главное, все живы?.. Ключица? У кого это? У Ерохина? А он в каске был? Что значит – какая разница! Ну, обвалились вместе с… Ну, месяц без премии посидят, ничего им не сделается! Что ты горячишься! Ведь и твоя вина, как бригадира, как ответственного, который должен был…
– Моя-а?!!
И чтобы уже все мосты сжечь – к юристу. Чтобы, выслушав непременные рассуждения – «с одной стороны… но с другой стороны», – иметь полное право на окончательное: «Ах, так?!!».
Но юристка с ногами-глазами-веками-скулами выслушала Гребнева, и рассуждения у нее не оказались «многосторонними». Юристом все-таки Валентина была классным!
– А в голове, – толковала она потом, – одно: все! Будет мой! Или я не я!
Она все знала заранее. Так и получилось. И Гребнев выиграл, бригада без премии не осталась. Правда, Шахов усидел. Не говоря уж о Сельянове. Тогда ушел Гребнев.
– Я же говорила! – было резюме Валентины. – Я предупреждала: зря завариваешь! Я так и знала! Выиграл, да?
– С твоей помощью. И не жалею, да! – огрызался он. Сначала просто бодрился, а потом действительно перестал жалеть.
Шесть лет отмонтажил, страну повидал. Вот квартиру однокомнатную получил здесь – ведь, можно сказать, сам ее строил. Ну и пусть первый этаж! Чем только первый этаж людей отпугивает?.. А за шесть лет масса публикаций набралась: в «районках», в областных – четыре раза, даже в республиканской однажды. Была не была! И подал документы на журфак, на заочное. Прошел! Никакой не Божий дар, вдруг обнаружившийся. Просто писал нормальным русским языком о том, что глодало, – много чего гложет на любой стройке. А если гложет, то куда? Известно куда – в газету!.. Назывался он рабкор и неожиданно для себя весьма ценился. Это он потом понял почему. Когда, уже будучи на втором курсе заочного, ушел из МСУ после своего «выигрыша». Когда определился в газету и стал не рабкором, а сотрудником. И обнаружил, что нормальный русский язык – редкость. Все больше «беззаветное служение делу коммунистического обновления мира лично дорогого…». Тот же Парин, учитель-наставник… А, ну его!