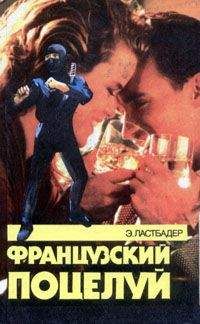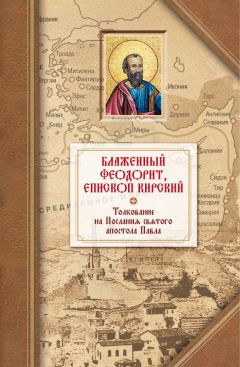Но сознание человека не так просто расстается с прошлой жизнью. Как непрестанно работающий трал, его память постоянно вытаскивает из прошлого разные случаи, мрачные, постыдные, неприятные, которые отравляют ему часы удовольствия и сна.
Морфея, которая изучила в совершенстве, как угодить ему с физической и с психологической точек зрения, тем не менее, была несколько растеряна и не знала, как приостановить этот поток психической эманации, отражающий его прошлую жизнь. После обильного секса, когда он лежал в полусонном состоянии, переплетясь с ней потными ногами, его слова текли, как темная река ошибок, прегрешений и тайной боли. Она поддерживала его голову, целовала его покрытый потом лоб, как будто его мучила лихорадка, понимая, что эта боль подавленных желаний, составляющих поток сознания, может разрастаться, как злокачественная опухоль. И сколько семей она сокрушила, сколько жизней унесла!
Скоро Морфея узнала, со сколькими мужчинами жена Мильо спала, и сколько раз она подстраивала так, что он заставал ее с ними. Невозможно измерить боль, сосчитать обиды, которые она ему наносила. Почему же, не могла понять Морфея, они так долго прожили вместе? Однажды ей показалось, что она понимает причину: жена Мильо была очень обаятельной и она привлекала различных влиятельных людей обоего пола, как пламя привлекает мотыльков. Поэтому ее помощь ему была бесценной.
Ничего удивительного не бью в том, что Мильо занимал мысли Морфеи: по-своему она любила его, чувствовала в нем величие, которого его жена в нем не могла заметить.
Юные годы Морфеи прошли в Азии, и ею мужчины всегда пользовались, как вещью. И поскольку она очень рано поняла, что таков, по-видимому, ее жребий (по правде говоря, она и не могла себе представить другого), и надо, по крайней мере, получать свою quid pro guo[15].
Прежде она никогда не чувствовала душевной привязанности к клиентам, да и не чувствовала в этом потребности. Более того, это ей всегда казалось не только рискованным делом, но и просто ужасным. Но, с другой стороны, в этом чувстве было и нечто захватывающее. Ей в Мильо все нравилось, даже его боль, потому что боль была частью его личности, частью того, что сделало его таким, каков он есть.
Примерно через час он замолчал: темная река слов обмелела. А потом он заснул в объятиях Морфеи. И пока он спал, она все переваривала эпизод с соблазнением женой Мильо любовницы министра финансов, целью чего было узнать секреты министра и заставить его ходатайствовать о том, чтобы Мильо предоставили пост в Индокитае.
А потом Морфея вообще отдалась фантазиям. А в ее фантазиях всегда фигурировал Мильо и мысли о том, как счастливо бы она могла жить с ним. Просто жить нормальной жизнью.
Мильо пробудился от своего сна в Ле Порт-дю-Жад[16], как всегда, посвежевшим. Этот дом удовольствий, представлял из себя белокаменный особняк XVIII века с обнесенным каменной стеной садиком с розами, фиалками и аквилегией. Посередине садика был фонтан в виде изумрудно-зеленой русалки, совокупляющейся с такого же цвета дельфином. Под большим каштаном стояла единственная скамеечка кованного железа.
Особняк этот стоял на левом берегу Сены, в трех кварталах от Сорбонны, совсем рядом с бульваром Сен-Мишель. Из многих его окон была видна роскошная зелень Люксембургского Сада.
Вот на него и смотрел Мильо, одеваясь. За его спиной Морфея зашевелилась в кровати.
— Скажи мне, дорогая Морфея, — обратился он к ней, завязывая галстук, — о чем ты думала, пока я спал?
— Как всегда, грезила о времени.
Мильо обернулся и посмотрел на нее с удивлением.
— В самом деле? Интересно, это как?
Она улыбнулась ему своей загадочной улыбкой, которая всегда его привлекала к ней.
— Чтобы это понять, надо родиться рабом. Ничего не иметь своего, быть покорной чужим желаниям. Я родом из Азии, и я знаю, что это такое: быть ничем, видеть, как твой родной край доят пришельцы. Кроме того, я женщина. Я замерла, замурованная в осколок времени, как фарфоровая балерина, которую периодически снимают с полки, любуются на нее, а потом ставят на прежнее место. Чтобы понять мои мечты, надо испытать на себе, каково быть близкой с кем-то, выполнять все его прихоти, укачивать его, когда он плачет, как ребенок, а потом, встретившись с ним на улице или в ресторане, быть им просто не замеченной.
Она посмотрела на него затуманившимися глазами.
— Для игрушки в руках больших детей, как я, грезы о времени — единственная отрада.
Он подошел и сел с ней рядом на край кровати, нежно дотронулся.
— Значит, вот ты что о себе думаешь? — Ему всегда требовалось дотронуться до нее перед уходом, чтобы убедиться, что она — не продукт его воображения.
— Я знаю, кто я есть, — сказала она. — Рабыня страсти.
— Возможно, — предположил Мильо, именно это и делает тебя столь страстно желаемой.
Она засмеялась.
— Вряд ли это так.
Морфея проследила за ним глазами, как он встал, надел пиджак.
— Вот идешь ты с друзьями по улице и видишь, что я прохожу мимо. Что ты сделаешь? Улыбнешься мне хотя бы? — Наступал самый тяжелый момент, момент расставания. Когда его с ней не будет, это уже не так тяжело: она сможет держать под контролем тупую и ноющую боль в сердце. Но в такой момент, когда рассыпается созданная ее фантазиями реальность, ей всегда хотелось отвернуться к стене и заплакать. Но вместо этого она только улыбнулась, потому что знала, что он любит, когда она улыбается и ждет от нее именно этого.
— Не только улыбнусь. Я остановлюсь и расцелую тебя в обе щеки, как давно потерянного и вновь обретенного друга. — Покидая ее, Мильо оглянулся, почувствовав, как забилось его сердце. Когда она улыбается, подумал он, она так напоминает мне Сутан. И когда я с ней, мне кажется, что рядом со мной Сутан.
Кладя деньги на крышку комода, он попрощался:
— Au revoir, Морфея.
* * *
Крису, забывшемуся коротким, тревожным сном на борту авиалайнера кампании «Пан-Ам», снились тени. Он мчался по залитой солнцем сельской местности где-то во Франции. Улыбающаяся Аликс рядом с ним, не отстает. Ее легонькая, складная фигурка согнулась над велосипедным рулем и так и излучает сексуальность.
Солнечные лучи, прорезая листву платанов, растущих по обе стороны дороги, время от времени ярко освещают ее лицо, которое как бы выныривает из тени в свет.
Она улыбается. Он видит ее ровные белые зубки, а потом тень вновь закрывает ее лицо. И тут Крис чувствует какой-то толчок в грудь, будто невидимой руки необычайной силы. Он отбрасывает его в сторону, и велосипед его теряет устойчивость на какое-то мгновение. Потом он выравнивается, но Аликс уже умчалась далеко вперед.
Крис кричит ей вслед, но ветер возвращает ему его слова. Втянув голову в плечи, он разгоняет велосипед, чтобы догнать ее, крутя педали с такой силой, что ноги начинают болеть. Чем сильнее они болят, тем отчаяннее он крутит педали. Но чем быстрее он мчится, тем дальше Аликс, уменьшившаяся уже почти в точку на горизонте.
Но он не сдается, тем не менее, а только удваивает свои усилия. И, наконец, он подкатывает к ней и видит, что она вместе со своим великом лежит на обочине дороги, пригвожденная гигантским веером к земле, влажной и темной от ее крови.
Он проснулся, вздрогнув, когда самолет коснулся посадочной полосы. Заморгал, облизал сухие губы, вспоминая сон, их гонку на велосипедах. Неприятно кольнула мысль, что Аликс лежит в больнице в Нью-Йорке, совершенно беспомощная, а он оставил ее.
За стеклом иллюминатора была Ницца, обрамленная синими горами, подернутыми дымкой, как на полотне импрессиониста. В здании аэропорта обнаружилось, что авиакомпания потеряла его багаж. Пришлось заполнять соответствующие требования, что он сделал, скрепя сердце: ничего ценного в его чемодане не было. Только время теряется зря.
Сутан он увидел на площадке для встречающих. Она всматривалась в лица пассажиров, сходящих с борта самолета. Так вот она какая: подружка Терри. Что-то это никак не укладывалось в его голове, как он ни старался.
Она была еще более красивой, чем тот образ, что хранился в его памяти. Время подчеркнуло экзотику ее черт, частично кхмерских, частично французских. Увидав его, она сняла темные очки.
На ней была блузка темно-зеленых, лазоревых и розовато-лиловых тонов, черные облегающие брючки, коротенькие сапожки того же цвета. Ее длинные, невероятно красивые ноги по-прежнему казались позаимствованными у какой-нибудь un petit rat, юной балерины из Парижской Оперы.
Крис заглянул в ее карие глаза, в которых плавали зелененькие точки, и произнес ее имя внезапно дрогнувшим голосом.
— Сутан!
— Привет, Крис!
Как все это прозаично! Совсем не так, как он представлял себе эту встречу в воображении. А теперь-то что делать? Просто улыбнуться друг другу? Обняться? Все так чертовски неудобно!