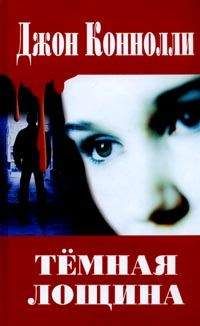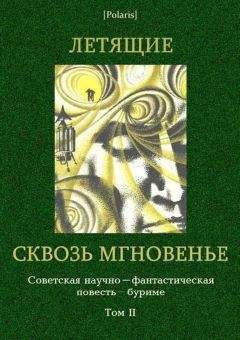— Я тебе когда-нибудь рассказывал о своей бабушке Люси? — начал он.
— Луис, я ведь даже твоей фамилии не знаю, — я уставился на него в изумлении.
Он как-то слабо улыбнулся в ответ, будто сам вспомнил ее с усилием, а затем продолжал уже без улыбки:
— Ладно. Когда Люси, моя бабушка по отцовской линии, была ненамного старше, чем я сейчас, она считалась красивой женщиной: высокая, с кожей оливкового цвета. Люси всегда носила волосы распущенными, сколько я ее помню, только так: рассыпанными по плечам темными локонами. Она жила с нами до дня своей смерти, а умерла она молодой. Подхватила пневмонию, тряслась в лихорадке и обливалась потом...
В нашем городе жил человек по имени Эррол Рич. Известно было, что он не из тех, кто, получив затрещину, подставляет другую щеку. Когда ты черный и живешь в таком городишке, это первая заповедь, которую следует усвоить: всегда подставляй другую щеку, потому что, если ты так не сделаешь, то никто — ни белый шериф, ни белое жюри, ни банда краснорожих придурков с веревками наготове, чтобы схватить тебя, привязать к машине и таскать по грязным дорогам на привязи, пока с тебя не слезет вся кожа, — никто не подумает, что может быть по-другому. А подумают так: этот нигер много о себе вообразил, показывает им всем дурной пример и мутит воду, так что белым парням, у которых и других дел полно, придется выбрать ночью потемнее и поучить его как следует, дать ему урок хороших манер.
Однако Эррол Рич был устроен по-другому. Он казался просто огромным, когда шел по улице; даже солнце не могло пробиться из-за его плеч. Чинил всякие механизмы: моторы, газонокосилки — все, где имелась движущаяся деталь, которую можно было исправить. Жил с матерью и сестрами в большой хижине у одной из старых дорог штата, присматривал за родными, стерег от белых парней и знал, что его боятся.
Но вот один раз, когда Эррол проезжал мимо бара на 101-й дороге, он услышал, как кто-то прокричал: «Эй, нигер!» — и переднее стекло его грузовика разлетелось от попадания в него бутылкой, то есть буквально взорвалось. Они бросили старую бутыль, наполненную собственной мочой. Эррол остановился на обочине, посидел какое-то время в машине, весь в моче, крови и битом стекле, потом выбрался из кабины, достал из кузова доску фута три длиной и направился к веранде, на которой вся эта стая обосновалась. Их было четверо вместе с хозяином, свиньей по имени Маленький Том, и Эррол заметил, что они все замерли, когда он подошел.
— Кто бросил бутылку? — спросил он. — Ты, Маленький Том? Если это ты, то лучше признайся сейчас. Или я спалю твой дерьмовый сарай.
Но никто не ответил. Эти парни просто одеревенели от страха. Даже собравшиеся скопом и пьяные, они знали, что с ним лучше не связываться. А Эррол — он просто посмотрел на них и сплюнул на землю. Размахнулся своей доской и бросил ее в окно бара. Маленький Том ничего не мог поделать, во всяком случае — тогда.
Они приехали за ним следующей ночью. На трех грузовиках. Схватили Эррола на глазах у матери и сестер и повезли в местечко под названием Поле Ады, где на большой поляне рос старый дуб. Наверное, больше ста лет ему стукнуло. Когда они туда приехали, там их уже ждала чуть ли не половина города. Там были и женщины, и даже ребятишки из тех, кто постарше. Народ закусывал цыпленком, жевал печенье, пил лимонад из бутылок, болтал о погоде, о видах на урожай, а может, и о бейсболе — так они всегда делали во время местной ярмарки перед началом представления. В общем, все спокойно беседовали, сидя в ожидании на капотах своих машин.
Привезли Эррола со связанными руками и ногами. Затащили его на крышу «линкольна», который установили под деревом. Набросили ему на шею веревочную петлю. А потом кто-то подошел и облил его бензином из канистры. Эррол посмотрел на него и произнес три слова — это было все, что он сказал с того момента, как его схватили. И это стало его последними словами на земле: «Не сжигайте меня».
Эррол Рич не просил ни отпустить его, ни избавить от повешения. Он этого не боялся. Но Эррол не хотел гореть. А потом, наверное, он посмотрел своим мучителям в глаза и увидел там то, чего было не избежать. И склонил голову. И стал молиться.
Ну, тут они перебросили веревку через толстую ветку и так резко ее натянули, что ему пришлось встать на цыпочки на крыше машины. Затем машина тронулась с места, и Эррол повис в воздухе, извиваясь и раскачиваясь. Кто-то поднес к нему зажженный факел. Они подпалили повешенного и слушали, как он вопил. Эррол кричал до тех пор, пока не сгорели его легкие. И тогда он умер.
Это случилось в девять часов десять минут, июльским вечером, на расстоянии не менее трех миль от нашего дома, как раз на противоположной стороне города. Так вот, в девять часов десять минут моя бабушка Люси вдруг встала со своего кресла около радиоприемника. В это время я сидел, примостившись у ее ног. Остальные домашние были кто у себя в спальнях, кто на кухне. Только я сидел с ней. Люси сразу направилась к двери и вышла в ночь прямо в том, в чем была — одетая в одну ночную рубашку с накинутой шалью. Она пристально вглядывалась в деревья. Я шел за ней, поминутно спрашивая: «Бабушка, что случилось?» Но она ничего не отвечала, просто продолжала идти. И шла так, пока до конца леса не осталось менее десяти футов. Тогда она внезапно остановилась.
Впереди нас темноту между деревьями пронизывал свет. Это напоминало пятно от лунных лучей, но на небе луны не было, и остальной лес стоял совершенно темный.
Я повернулся к бабушке Люси и посмотрел ей в глаза...
Луис замолчал и на мгновение зажмурился, как человек, который вспомнил о давно позабытой боли.
— ...В ее глазах отражался огонь. В зрачках, в самой глубине черноты, в самом середине я различал языки пламени. И видел горящего мужчину так же отчетливо, как будто он находился прямо перед нами. Но, когда я оглянулся, вокруг были только темнота да светящееся пятно, и больше ничего.
И Люси сказала: «Бедный мальчик, бедный мальчик». А потом заплакала. В то время, пока она плакала, ее горе и слезы как бы тушили языки пламени — силуэт пылающего мужчины в ее глазах стал постепенно таять, а затем совсем исчез. И пятно света в лесу тоже растворилось в темноте.
Люси никогда об этом случае никому не рассказывала. И мне запретила болтать лишнее. Но, как мне кажется, моя мать знала. По крайней мере, мама догадывалась, что у Люси был особенный, редкий среди людей дар: она могла находить тени умерших, причем в таких местах, где никто их не обнаруживал и даже не искал. А еще она видела призраки, двигающиеся сквозь предметы; то есть те же тени умерших...
Луис умолк, а потом мягко спросил:
— Ты это видел, Берд? Призраки?
Я почувствовал холод в кончиках пальцев рук и ног.
— Не знаю.
— Я припоминаю, что происходило с тобой в Луизиане, Берд. Ты просто прозревал случившееся, и этого, кроме тебя, никто не видел. Я точно знаю. И сейчас чувствую нечто подобное вокруг тебя. Но пусть оно тебя не пугает.
Я медленно, неуверенно покачал головой. Невозможно утверждать то, во что сам не веришь. Сам я думал — или надеялся, — что нахожусь в состоянии горя, погружен в депрессию, что потеря жены и ребенка как-то сказались на моем разуме. Рассудок мой определенно пострадал, эмоционально и психологически я был не в себе; на меня в особенности влияло чувство вины, оно накладывало такой сильный отпечаток, что меня преследовали образы погибших, порождаемые моим больным воображением. Хотя я впервые увидел призраки Дженнифер и Сьюзен после встречи р тетушкой Марией Агуиллард в Луизиане; после того, как она рассказала мне подробно, что именно с ними случилось; этого она, совершенно точно, не могла прежде знать. Остальные видения появились позже. Они приходили ко мне и разговаривали со мной во сне.
Сейчас, хотя я уже видел Риту и Дональда после их гибели, встречался с тенью моей дочери Дженни, чувствовал на своем плече руку Сьюзен, у меня все еще оставалась надежда, что это результат воздействия на сознание приближающейся годовщины смерти моих родных: неизбывное горе прокралось в тайники моего мозга и снова стало меня беспокоить. А может, это результат скрытого чувства вины, которое я мог испытывать из-за желания быть с Рейчел Вулф, попробовать начать с ней все сначала.
Есть такая форма нарколепсии, при которой пациент страдает от дневных снов: видения в быстрой стадии сна возникают в течение дня, причем они очень отчетливые, неотличимые от яви. В результате то, что происходит во сне, и то, что существует в реальном мире, как бы сталкиваются между собой и смешиваются.
Какое-то время мне казалось, что я стал жертвой подобного недуга. Но в глубине души я знал: дело не в этом. Во мне действительно сошлись два мира, однако границы их не совпадали с границей между бодрствованием и сном.
Я тихо рассказывал об этом Луису, а он пристально смотрел на меня со своего стула в углу комнаты, явно испытывая некоторое смущение и от своих неожиданных излияний, и от того, что ему приходится выслушивать мои признания.