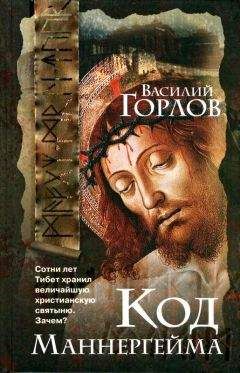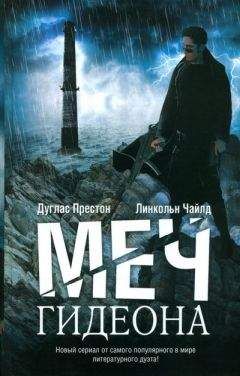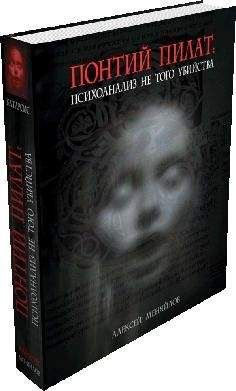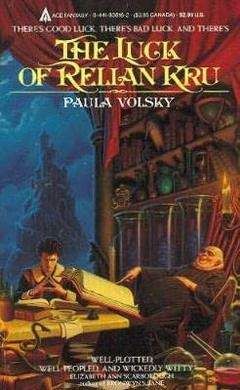Он вновь просмотрел распечатки фрагментов интернетовских сайтов, посвященных рунам.
Почему Маннергейм выбрал для записи именно руны?..
Популярность рун в гитлеровской Германии должна была распространиться и на союзную ей Финляндию. Недаром эмблемой финской авиации и танковых частей в то время служил хакаристи — та же свастика.
Значит, можно предположить, что руны знакомы хотя бы одному из троих — Хейно Раппала. А одного вполне достаточно — ведь маршал ясно указывает, что лишь втроем они смогут найти спрятанное.
Нет, здесь что-то не так…
А если бы Раппала погиб сразу после получения письма? Двое других не имели бы никаких шансов отыскать клад.
Значит, доверить ключ к шифру одному из адресатов Маннергейм не мог — по той же причине: не ровен час — помрет. Очень похоже на правду.
Но тогда получается, что никакого ключа вообще не существует — ведь двое из троих ничего о нем не знали. Даже если считать, что Хейно Раппала что-то не успел из-за скоропостижной кончины передать внучке (или же она чего-то не смогла понять), то уж сомневаться в том, что Монгрел старательно вызнал все у собственного деда, — не приходится.
Также можно отмести предположение, что маршал использовал шифр, известный всем троим, — тот же Миндаугас давно бы прочел все, что нужно, и постарался откопать спрятанное.
Но ни он, ни его внук почему-то не смогли этого сделать. Даже после того, как у последнего оказались все три письма.
Теперь ясно, что тайник — не мистификация.
Но почему для его нахождения избираются трое, судя по всему, совершенно несхожих друг с другом людей, разных национальностей и разного вероисповедания?..
Раппала — православный, литовец — судя по всему — католик, ну а саам-охотник, видимо, язычник.
А не в этой ли разности как раз и дело?..
Предположим, что Маннергейм не может доверить свою тайну одному — даже самому близкому — человеку. Соблазн в одиночку овладеть кладом может быть слишком сильным, тогда как троим придется искать компромисс.
Хорошо, допустим.
Но что это дает?..
Николай вновь упрямо уставился на листок.
Все три сообщения почти идентичны. Отличаются друг от друга лишь несколькими рунами.
Бессонная ночь, проведенная за перечитыванием дневниковых записей Маннергейма, давала себя знать — очертания рун окрашивались легкомысленно розовым цветом и становились зыбкими — кажется, они готовы пуститься в пляс…
Николай устало поднялся из-за стола. Нужно сделать перерыв — принять душ, поесть, да и на работу собираться пора.
Неприятное предчувствие, интуиция, к которой он наконец научился прислушиваться, вернула его из-за горизонтов чистой мечты в душный полдень петербургского лета.
Он постоял у распахнутой настежь балконной двери, бездумно глядя на скучную прямую проспекта Просвещения, заполненную грязно-бежевыми прямоугольниками типовых многоэтажек.
Привычный пейзаж не успокаивал.
Николай набрал телефонный номер жены, опасаясь, что она, как обычно, оставила трубку в кабинете, а сама ходит по торговым залам. Но, на счастье, застал Елену на месте.
— Привет, твои планы не изменились? — поинтересовался он. Елена сегодня после работы собиралась с Владимиром Николаевичем уехать на залив и выходные провести там.
— Нет, а почему ты спрашиваешь?..
Николай замялся, не зная, как точнее рассказать ей о своих смутных опасениях.
— Давай скорее. У меня масса дел, — поторопила она.
— Ты знаешь, что-то мне тревожно… Может, не поедешь никуда?
Елена заметила, что ночами нужно спать, а не читать до утра, и тогда не будет ничего мерещиться. И вообще, у нее серьезные планы по уборке, как она выразилась, «рыбацкого гнезда», и она не намерена из-за нелепых страхов от них отказываться.
— У тебя все? — закончила она.
— Нет, ты едешь с Владимиром Николаевичем?
— Да, папа за мной вечером заедет домой, а ты когда вернешься?..
— У меня — летучка, так что не рано. Это хорошо, что Николаич будет за рулем…
Елена обиженно фыркнула и заявила, что ей хорошо известен противный мужской шовинизм в отношении женщин-водительниц.
Он в очередной раз объяснил, что шовинизм тут ни при чем, а вот гонять, как она, по перегруженной транспортом трассе «Скандинавия» со скоростью сто пятьдесят кэмэ в час на их старенькой «девятке» — по меньшей мере, неумно.
Елена обиделась уже всерьез — пришлось мести хвостом, приседать и кланяться, чтобы разговор завершился на мирной ноте.
Сигареты, которые он курил одну за одной по пути в редакцию, не успокаивали. Ему толком не удавалось сосредоточиться на дороге, в результате пару раз пришлось резко тормозить, чтобы не въехать в замедляющие ход передние машины. Сзади, естественно, возмущенно сигналили, а самый обиженный — на новенькой сверкающей «десятке», — обогнав его, намеренно несколько раз резко тормозил, подставляя корму для удара.
«Дерганья обиженного "десяточника" с внешностью мелкого бандюгана — типичное проявление петербургских дорожных нравов», — подумал Николай. Северная столица диктовала своим жителям сдержанность, граничащую с холодностью, и эмоциональную закрытость. Но многочисленные стрессы жителя современного мегаполиса требовали эмоциональной разрядки, и, очевидно, сев за руль, петербуржцы в прямом и переносном смысле отпускали тормоза.
Он с трудом разыскал на заднем дворе место, куда приткнуть машину. Привычно погладив руль, сказал «девятке» ласковое слово, поблагодарив за то, что добрались без происшествий. Не то чтобы Николай верил, что машина его понимает, но такие маленькие моменты общения создавали приятную атмосферу дружеской близости и доверия, необходимую человеку и, наверное, автомобилю тоже.
В редакции, несмотря на лениво-жаркий день традиционно бедного на новости августа — все в отпусках и в городе почти ничего не происходит, — царило веселое оживление. В коридоре у просмотрового магнитофона собралась толпа. Руководила процессом корреспондент Слава Елкина, время от времени нажимавшая кнопку «play». Народ веселился вовсю.
Невысокая полненькая Славка прославилась как автор самого знаменитого в «Новостях» стендапа — это когда корреспондент с микрофоном говорит что-то в кадре.
Дело было зимой, в Крещение. В маленькой деревеньке на Онежском озере Славка снимала сюжет о том, что верующие, какой бы мороз ни стоял 17 января, исполняя обряд, непременно окунаются в прорубь.
Елкина, склонная к авантюрам, решила тоже окунуться. Погода подходящая — градусов двадцать мороза, но смелую журналистку это не остановило. Более того, она решила сделать в проруби стендап, и сделала. Вполне духоподъемный сюжет о добрых и хороших верующих заканчивался этим самым стендапом — погрузившаяся в прорубь Славка выныривала, хватала лежащий на ледяном бортике микрофон и слегка дрожащим голосом что-то говорила.
Оператор снимал ее крупно, так что были отчетливо видны капельки воды, стекавшие с шеи в красивую ложбинку, образованную двумя крупными полушариями идеальной формы… Едва прикрытые лоскутками откровенного купальника, они просто царили, занимая половину кадра.
Славкина грудь притягивала зрительское внимание, мешая воспринимать вполне правильные слова и придавая безобидному сюжету фривольное звучание.
После того как репортаж прошел в эфире, в редакцию «Новостей» пришло письмо из петербургского епархиального управления, где осторожно высказывалось сожаление по поводу утраченной ныне культуры костюма, соответствующего религиозным обрядам…
Николай остановился, пытаясь понять суть происходящего на экране монитора. Славка демонстрировала новый, только что отснятый материал. Небольшого роста лысоватый мужичок, по виду — малопьющий, положительный работяга, — боязливо отступал от наседавшей на него крупной женщины средних лет.
— А почему, — визгливо и злобно вопрошала тетка, — почему он назвал меня Бабой Ягой, а? Никакая я не Баба Яга, она уродина, а я — совсем даже наоборот — красавица, — и она картинно подбоченилась, явно рассчитывая на реакцию не попавшей в кадр группы поддержки.
Народ загалдел, и оператор, торопливо сделав панораму, продемонстрировал разновозрастную группу человек в тридцать, кучно стоявшую у двух поваленных секций бетонного забора…
Славка, кивнув на монитор, сказала Николаю:
— Для вас сюжет делаю про уплотнительную застройку.
Прочитав текст, Николай понял, что такой накал страстей, как на Удельной, ему еще не встречался. Сюжет начинался фразой: «Прораб строительного участка Семен Бородавка обвинил сорокалетнюю Марину Тихомирову, мать четверых детей, в том, что она вылила ему на голову поллитровую бутылку крысиного яда».
Далее корреспондент описывала трехмесячное противостояние, за время которого жильцы умудрились разобрать три деревянных забора, а прямо сегодня опрокинули несколько блоков нового — железобетонного.