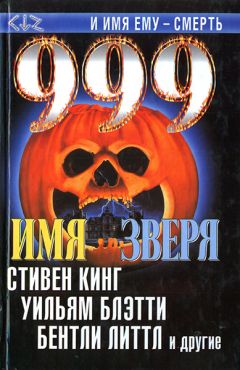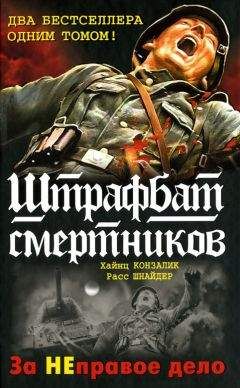— Миссис Анджела, — сказал он женщине, которая стояла неподалеку, рассматривая картину Гроссфогеля так пристально, словно серьезно подумывала, не купить ли ее. В то время спиритическая кофейня миссис Анджелы еще не доказала своей финансовой несостоятельности, и, возможно, ей казалось, что творения Гроссфогеля, хотя и очень посредственные с точки зрения искусства, тем не менее окажутся созвучными двусмысленности ее заведения, где клиенты сидят за столиками и получают советы от нанятых ею консультантов-медиумов, одновременно услаждая себя широким выбором превосходных пирожных.
— Вам следует прислушаться к тому, что он говорит про эту больницу, сказала мне миссис Анджела, не отводя взгляда от картины Гроссфогеля. — У меня она давно вызывает сильное неприятное чувство. В некоторых ее аспектах есть что-то чрезвычайно сумбурное.
— Сомнительное! — поправил расстриженный академик.
— Да, — ответила миссис Анджела. Во всяком случае, это не то место, где я хотела бы оказаться, проснувшись однажды поутру.
— Я написал о ней стихотворение, — сказал опрятно одетый джентльмен, который все это время мерил шагами пол галереи, несомненно выжидая удобной минуты, чтобы подойти к женщине, которая была владелицей или арендаторшей складского помещения и убедить ее устроить то, о чем он без конца разглагольствовал, а именно "вечер герметической поэзии", гвоздем которого, разумеется, должны были стать его собственные произведения. — Я как-то прочел вам это стихотворение, — сказал он владелице галереи.
— Да, вы мне его читали, — подтвердила она без всякого выражения.
— Я написал его после того, как поздно ночью получил первую помощь в тамошнем приемном покое, пояснил поэт.
— А что с вами было? — спросил я.
— О, ничего серьезного, как выяснилось. Через несколько часов я уже был дома. Рад сказать, в палату меня не положили. Это место (я цитирую свое стихотворение о нем) — "средоточие бездн".
— Прекрасно сказано, — сказал я, — но не могли бы мы поговорить более конкретно?
Однако, прежде чем я сумел вытянуть ответ у самопровозглашенного творца герметической лирики, дверь картинной галереи внезапно была распахнута с силой, которую мы все внутри тотчас узнали. Секунду спустя мы увидели перед собой корпулентную фигуру Райнера Гроссфогеля. Физически он в большей своей части словно был тем же человеком, которого я помнил до его падения на пол картинной галереи шагах в пяти от того места, где я стоял сейчас, и в нем не осталось ничего от стонущего бредящего индивида, которого я отвез в приемный покой больницы для немедленного принятия мер. Однако в нем чудилось что-то иное, скрытая, но полная перемена в том, как он смотрел на то, что перед ним: если взгляд художника был привычно опущен или нервно отведен в сторону, его глаза теперь смотрели прямо и были исполнены спокойной целеустремленности.
— Все это я забираю, — сказал он, делая широкий, но мягкий жест в сторону плодов своего творчества, которые заполняли галерею: ни единое не было продано ни в день открытия выставки, ни за все время его исчезновения. — Я был бы благодарен вам за помощь, если вы склонны ее оказать, — добавил он и начал снимать картины со стен.
Мы все соединили наши усилия с его усилиями, не задавая вопросов, ничего не говоря, и нагруженные произведениями искусства, большими и малыми, последовали за ним из галереи на улицу к видевшему виды пикапчику, припаркованному у тротуара перед входом. Гроссфогель небрежно швырнул свои творения в кузов взятой на прокат, а может быть, одолженной машины (поскольку до этого дня никаких транспортных средств вроде бы у него не имелось), нисколько не заботясь о возможных повреждениях лучших образчиков, как он прежде считал, сошедших к этому моменту с его творческого конвейера. Миссис Анджела немного поколебалась, возможно, все еще прикидывая, как одно или несколько этих произведений будут смотреться в ее спиритически-кондитерской кофейне, но затем и она принялась выносить творения Гроссфогеля из галереи и швырять их в кузов пикапчика, где их куча росла все выше и выше, точно мусорная, пока стены и пол галереи полностью не очистились, и она ни обрела вид типичного пустующего складского помещения. Затем Гроссфогель сел за руль, а мы все стояли в изумленной тишине перед очищенной картинной галереей. Высунув голову в окошко взятого на прокат или одолженного пикапчика, он окликнул женщину, которая заведовала галереей. Она подошла к пикапчику со стороны водителя и обменялась с художником несколькими словами перед тем, как он завел мотор машины и уехал. Вернувшись туда, где мы продолжали стоять на тротуаре, она сообщила нам, что через несколько недель в галерее откроется новая выставка работ Гроссфогеля.
* * *
Вот такой была новость, облетевшая кружок художников и интеллектуалов, с которыми я общался: Гроссфогель после тяжелого приступа неизвестной болезни и обморока на первой весьма неудачной выставке своих работ намерен устроить вторую вставку, после того как полностью очистил галерею от более чем посредственных картин, рисунков и всего прочего, уже предложенного им обозрению публики, и увез их в кузове пикапчика. Разумеется, новой выставке Гроссфогеля была устроена профессиональная реклама заботами женщины, которой принадлежала картинная галерея и которая могла получить финансовую выгоду от продажи того, что в рекламном проспекте этого мероприятия не слишком уклюже было названо "кардинальной и перепровидческой фазой в творчестве знаменитого художника-провидца Райнера Гроссфогеля". Тем не менее из-за обстоятельств, связанных как с прошлой, так и с предстоящей выставкой, сразу же все было окружено туманом бредовых, а порой и жутковатых сплетен. Такое развитие событий вполне отвечало натуре тех, кто составлял этот кружок сомнительных (не говоря уж о сумбурных) художников и интеллектуалов, в котором я нежданно занял центральное место. В конце-то концов это я отвез Гроссфогеля в больницу после его обморока на выставке его работ, и именно больница — уже, как я узнал, обладавшая странной репутацией, — мрачно маячила в тумане сплетен и предположений, сгустившемся вокруг предстоящей выставки Гроссфогеля. Намекали даже на особые процедуры и медикаментацию, которым подвергся художник за краткое пребывание там (чем объяснялось его непонятное исчезновение и последовавшее возвращение) для достижения того, что по мнению многих должно было оказаться "художественным провидением". Вне сомнения, именно эти ожидания, эта отчаянная надежда на нечто потрясающей новизны и ослепляющего блеска, которые некоторым индивидам со слишком горячечным воображением мнились, как прорыв за пределы чистой эстетики и понудили многих в нашем кружке принять неортодоксальную природу следующей выставки Гроссфогеля, а также объяснило эмоциональное ощущение обманутости, поджидавшее тех из нас, кто пришел на открытие выставки.
И, сказать правду, произошедшее в галерее в тот вечер ничем не напоминало открытия выставок, привычные нам: стены и пол галерей оставались такими же пустыми, какими стали после того, как Гроссфогель приехал в "пикапчике" и увез все свои работы со своей прежней выставки, тогда как новая, как мы скоро узнали, приехав туда, должна была открыться в небольшой комнате в глубине складского помещения. Далее: с нас взяли солидную плату за вход в эту маленькую заднюю комнату, освещенную лишь несколькими очень слабыми лампочками, кое-где свисавшими на шнурах с потолка. Одна покачивалась в углу комнаты над столиком, накрытым обрывком простыни, под которым что-то крутилось. От этого угла с тусклой лампочкой и столиком под обрывком простыни расходились полукружья кое-как расставленных складных стульев. Эти неудобные стулья в конце концов были заняты теми из нас (всего десяток с небольшим), кто был готов уплатить солидную сумму за право увидеть то, что больше смахивало на незатейливый театр одного актера, чем на художественную выставку. Я слышал, как миссис Анджела на стуле позади меня снова и снова повторяла сидевшим рядом: "Что происходит, черт подери?" В конце концов она наклонилась ко мне со словами:
— Что еще затеял Гроссфогель? Я слышала, что с тех пор, как он вышел из больницы, его до одурения пичкали всякой дрянью.
Тем не менее художник, казалось, был в ясном уме и твердой памяти, когда минуту-другую спустя, он прошел между кое-как расставленными стульями и встал рядом со столиком, накрытым обрывком простыни, над которым покачивалась тусклая лампочка. В тесноте задней комнаты картинной галереи корпулентный Гроссфогель выглядел почти великаном — точно так же, как он выглядел, когда лежал на казенном матрасе в своей отдельной палате. Даже его голос, который обычно бывал негромким, почти шепчущим, казалось, усилился, когда он обратился к нам.