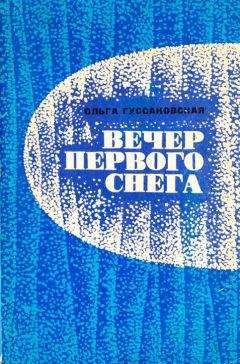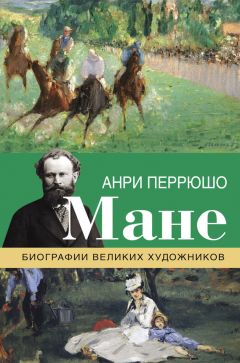— Ах, «Леда»… Работа Жильбера Тома, Франция. Это в галерее девятнадцатого века. Сразу перед импрессионистами.
Девушка в первый раз взглянула на меня.
— Это та, на которую в прошлом месяце бросился парень с ножом. О ней многие спрашивают. То есть… — Она умолкла, заправляя на место обсидиановую прядку. Теперь я заметил, что волосы у нее выкрашены в черный цвет, так что прической в сочетании со светлой кожей и зеленоватыми глазами она напоминала головку восточной статуэтки. — Ну, не так уж многие, но несколько человек спрашивали.
Я поймал себя на том, что не свожу с нее глаз. Она притягивала меня. Смотрела понимающим взглядом из-за своей стойки. Под обтягивающей курточкой на молнии угадывалась тонкая гибкая фигурка, узенькая полоска тела между верхом и поясом черной юбки — максимальная ширина открытого живота, дозволенная в этой галерее, полной «ню», подумалось мне. Быть может, она подрабатывает здесь, чтобы оплатить обучение живописи, а возможно, она неплохой гравер или дизайнер ювелирных изделий. Я присмотрелся к бледным кистям рук с длинными пальцами, под слишком короткой юбкой мелькнули голые ноги. Она была совсем девочка — и я отвел взгляд. Она была совсем девочка, а во мне, я это знал, не было ничего от стареющего Казановы.
— Я была просто вне себя, когда услышала, — покачала головой Мириам. — Только я не знала, что это та картина.
— Ну, — начал я, — я тоже слышал об этом инциденте. Странно, зачем бросаться с ножом на картину, верно?
— Не знаю… — девушка потерла ладони о край стойки. На большом пальце блеснуло широкое серебряное кольцо. — Каких только психов у нас тут не бывает!
— Салли! — пробормотала старшая.
— Да ведь так и есть! — с вызовом продолжала девушка.
Она глядела мне прямо в лицо, будто спрашивая, не из тех ли я сумасшедших, о которых она только что упомянула.
Я представил, что вот по какому-то признаку догадываюсь, что нравлюсь ей, и приглашаю на чашку кофе. Предварительный флирт, во время которого она будет болтать что-то вроде «каких только психов у нас не бывает». В голове всплыло лицо с рисунков Роберта Оливера. Та женщина тоже была молода и в то же время лишена возраста, в ее лице светилось тонкое понимание и полнота жизни.
— Может быть, он был не такой уж сумасшедший?
Взгляд девушки сделался жестким и деловитым.
— Кому нужно портить произведение искусства? Охранник мне потом рассказывал, что «Леда» уцелела чудом.
— Благодарю вас, — проговорил я, превратившись опять в солидного пожилого мужчину с планом галереи в руках.
Мириам ненадолго забрала у меня карту и обвела синей ручкой нужный мне зал. Салли уже не замечала меня — воображение разыгралось у меня одного.
Однако весь день был в моем распоряжении. Я, чувствуя в себе особую легкость, поднялся по лестнице к величественной мраморной ротонде и несколько минут бродил среди ее колонн, а потом остановился в центре и глубоко вздохнул.
И тут произошло странное событие, первое из многих. Я вдруг подумал, что и Роберт мог остановиться здесь, и попытался ощутить его присутствие или, возможно, просто догадаться, что он переживал здесь. Знал ли он заранее, что собирается ударить ножом картину — и какую именно картину? Тогда он мог пролететь через великолепие ротонды, не оглянувшись, уже держа руку в кармане. Но если он не обдумывал своего поступка заранее, если это накатило на него, только когда он остановился перед картиной, он мог задержаться в лесу мраморных стволов, как сделал бы всякий, способный ощущать красоту места и любовь к классическим канонам.
В сущности — я сам опустил руку в карман — даже если атака была предумышленной и он не сомневался в своем решении или даже представлял миг, когда достанет нож и раскроет его на ладони, он все же мог остановиться здесь, растягивая предвкушение удовольствия. Мне, конечно, трудно было ощутить в себе желание повредить картину, но ведь я воображал чувства Роберта, а не собственные. Помедлив еще минуту, я двинулся дальше, покинув странный сумрак этого места и снова очутившись в окружении картин — в длинной галерее живописи девятнадцатого века.
К моему облегчению, в зале не оказалось посетителей, хотя охранников было даже двое, словно администрация музея в любой момент ожидала нового нападения на тот же холст. «Леда» притянула меня к себе сразу, через весь зал. Я устоял перед искушением отыскать ее описание в книгах или в интернете и теперь радовался этому. Историю картины я мог прочесть позже, а сейчас она оказалась для меня свежей, потрясающей и реальной.
Это было большое, откровенно импрессионистское полотно, хотя детали прописаны более тщательно, чем это сделали бы Моне, Писсарро или Сислей. На холсте размером примерно пять на восемь футов доминировали две фигуры. Центральная — почти полностью обнаженная женская фигура, лежащая на изумительно реально выписанной траве. Она откинулась навзничь в классической позе отчаяния и беспомощности — или самозабвения? — голова, отягощенная золотыми кудрями, запрокинута, край покрывала удерживается на животе и сползает с бедра, небольшие груди обнажены, руки раскинуты. Кожа на фоне реалистично выписанной травы казалась сверхъестественно бледной и прозрачной, как росток, пробившийся под бревном. Я сразу вспомнил «Завтрак на траве» Мане, хотя в фигуре Леды была борьба, напряжение, эпичность в отличие от бесстыдного безразличия наготы проститутки у Мане, и тон кожи был холоднее, и мазок свободнее.
Вторая фигура была не человеческой, хотя несомненно относилась к первостепенным персонажам — громадный лебедь спускался на нее, словно готовясь сесть на воду, бил крыльями, чтобы уменьшить скорость спуска, и маховые перья загибались внутрь, подобно когтям, лапы с серыми перепонками почти касались нежной кожи ее живота, обведенные черным глаза горели яростно, как взгляд жеребца. Мощь полета, хоть и застывшего на полотне, поражала и объясняла, зримо и психологически, панику женщины, лежащей на траве. Хвост лебедя загибался под брюхо, выпячивался, словно тоже помогал остановить движение. Чувствовалось, что птица только что вырвалась из густой чащи, что внезапно заметила фигуру спящей и так же внезапно повернула к земле в пароксизме страсти.
Или лебедь искал ее? Я припоминал подробности легенды. Удар крыльев огромной птицы мог опрокинуть ее на спину, возможно, в тот самый момент, когда она очнулась от сморившего ее на открытом воздухе сна. Лебедю не требовалось гениталий, чтобы подчеркнуть его мужественность — вполне достаточно было тени под хвостом и мощной головы с клювом, склонившейся к ней на длинной шее.
Мне и самому захотелось коснуться ее, защитить спящую, отбросить лебедя прочь. Отступив, чтобы увидеть картину в целом, я почувствовал панику Леды, как она, пораженная внезапным нападением, откинулась на спину, и даже руки ее, вцепившиеся в землю, выражали ужас — ни капли похотливой жертвенности классических полотен со стен других залов этого музея, мягкого порно сабинянок и святых Екатерин. Мне на ум пришло стихотворение Йейтса, найденное много лет назад и не раз перечитанное. Однако и его Леда была добровольной жертвой, почти лишенной собственной воли, — «как бедрам ослабевшим не поддаться». Надо будет отыскать его снова и проверить. Леда Жильбера Тома была настоящей женщиной, и она была по-настоящему испугана. Если она желанна для меня, подумалось мне, то именно потому, что она настоящая, а не потому, что она уже покорилась превосходящей силе.
Подпись к картине была чрезмерно лаконична: «Леда (Leda vaincue par le Cygne), 1879, закуплена в 1967. Жильбер Тома, 1820–1894». Мсье Тома, очевидно, был чрезвычайно восприимчивым человеком и незаурядным художником, если ему удалось вложить столь подлинные эмоции в застывшее мгновенье на картине. Прописанные быстрыми мазками перья и расплывчатое пятно драпировки выдавали в нем приверженца импрессионизма, но полотно не было чисто импрессионистским в первую очередь выбором сюжета из тех, которыми импрессионисты пренебрегали: академический сюжет, классический миф. Что заставило Роберта Оливера вытащить нож с намерением вонзить его в эту сцену? Не испытывал ли он антисексуального протеста, в который раз задумался я, или страдал комплексом вины за собственную сексуальность? Или его поступок, способный непоправимо испортить картину, если бы его вовремя не остановили — не был ли он странной попыткой спасти девушку, беспомощно раскинувшуюся на траве под лебедем? Не было ли это проявлением извращенного, бредового рыцарства? Или ему просто не понравился эротизм картины? Только можно ли было назвать эту картину эротичной?
Чем дольше я стоял перед ней, тем сильнее убеждался, что это — рассказ о власти и насилии. Леда не вызывала желания коснуться, осквернить ее самому. Нет, хотелось оттолкнуть мощную оперенную грудь лебедя, не позволив ему вновь налететь на нее. Не это ли чувство испытывал Роберт Оливер, вытаскивая из кармана нож? Или он просто хотел выпустить ее из рамы? Я постоял еще, уйдя в размышления, глядя, как пальцы Леды цепляются за траву рядом с ней, а затем повернулся к следующей работе того же Жильбера Тома. В ней, возможно, крылся ответ на мой вопрос, на любопытство вне мыслей о Роберте Оливере с его ножом. Что за человек был Тома? Я прочел подпись: «Автопортрет с монетами, 1874» и едва успел заметить твердой рукой прописанный черный сюртук, черную бороду, гладкую белую рубаху, когда меня тронули за локоть. Я обернулся, не особенно удивляясь — в Вашингтоне я прожил больше двадцати лет, а его не зря называют маленьким городом, — но увидел, что ошибся. Рядом не было никого из знакомых, просто кто-то нечаянно задел меня. В зале собралось уже немало народа: пожилая пара, вполголоса обсуждающая между собой картины, мужчина в темном костюме, с блестящим лбом и черными волосами, несколько туристов, переговаривавшихся, кажется, по-итальянски. Рядом со мной — вероятно, она и задела — стояла молодая женщина, во всяком случае моложе меня. Она смотрела на «Леду», заняв место прямо перед холстом, словно собираясь провести там несколько минут. Высокая и худощавая, немногим ниже моего роста, она стояла, скрестив перед собой руки. На ней были синие джинсы, белая хлопчатобумажная блузка и коричневые сапожки. Прямые волосы, выкрашенные в темно-рыжий цвет, спадали ей на спину; профиль — щека в три четверти оборота — был чистым и гладким. Светлые брови и длинные ресницы, никакой косметики. Когда она склонила голову, я заметил светлые корни волос; она, вопреки моде, не осветляла волосы, а выбрала более темный оттенок. Минуту она постояла, по-мальчишески засунув руки в задние карманы джинсов, потом склонилась к картине, что-то рассматривая. Увидев, как она изучает мазки — или я додумал это уже задним числом? — я признал в ней художницу. Только художник стал бы рассматривать картину под таким углом, подумал я, наблюдая, как она поворачивается и наклоняется, чтобы различить текстуру слоев краски в косо падающем свете. Меня поразила ее сосредоточенность. Я остался стоять, незаметно наблюдая за ней. Она отступила назад, снова разглядывая полотно целиком. Мне показалось, что она слишком долго задержалась перед «Ледой», а она все не уходила, и причина крылась не в изучении техники. По-видимому, она чувствовала мой взгляд, однако он ее не слишком беспокоил. Наконец она все же отошла — не оглянувшись на меня, не любопытствуя. Она просто смахнула мой взгляд: красивая высокая девушка, привыкшая к чужому вниманию. Может быть, подумалось мне, она не художница, а артистка или преподавательница, закаленная чужими взглядами и даже наслаждающаяся ими. Я нашел взглядом ее руки, опустившиеся вдоль тела, когда она повернулась к натюрморту Мане на дальней стене; кажется, она без прежней увлеченности взглянула на его светящиеся бокалы с вином, сливы и виноград. Зрение у меня, хотя еще сохранило остроту, уже не то, что прежде. Я не сумел рассмотреть, нет ли у нее краски под ногтями. И подходить ближе, чтобы снова увидеть это пренебрежительное движение плеча, не решился.