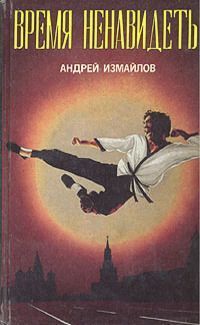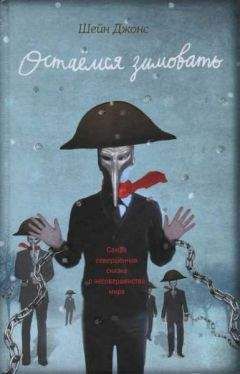Ах, слаб?! Да вы что! Он еще ого-го! Это у него временное недомогание. Знаем мы таких дедов, у них после ста лет второе дыхание открывается. А недомогание – временно. Отвар из трав, настой на стеблях, припарки – эти деды много знают такого из народной медицины! Можете за него не беспокоиться. А то – в санаторий? Рядом ведь! И палату можно устроить отдельную (за отдельную плату, конечно), и помощь квалифицированную, и зонд.
Да нужен ему зонд, как мельнику припарки! Как Гребневу трость пестуновская!
Гребнев забирался все выше в собственной накачке, озлясь – аж в горле засмыкало. «Ишь, диковину отыскали. Я вам покажу диковину!» – грозил мельник. «Игрушку задумали! Я вам покажу игрушку!» – грозил мельник. Никому и ничего он не покажет – не тот калибр. А вот Гребнев – да, покажет. И отнюдь не игрушку!.. Дед-то! (Осенило Гребнева). Дед- то затем и приходил! Защиты хотел. Так и не попросил защиты, но хотел. Ему, деду, это оружие несподручно – газета. А вот Гребнев…
А? Ведь непонятное происходит. Ведь сколько лет жил горазд просто: постучался кто – заходи, голодный – ешь, гадишь – уйди, не уходишь – выгоню. Теперь же говорят, что не гадят, а гадят. И выгнать – не выгнать. Еще кто кого. Непонятно. Не понимает такого мельник.
Зато Гребнев понимает. Еще как понимает! Если Гребнев сделает полосу, шестьсот строк – и всерьез, не былинно-этнографический речитатив, а так, чтобы стало ясно: нельзя трогать мельницу на Вырве, нельзя из истории лепить разнаикакой сувенир, нель-зя! – если Гребнев это осилит, и так оно все и выйдет в номере, то Парину сложней будет демонстрировать преимущества пряничного домика Долганова перед древней развалиной, хозяин которой, во-первых, хулиган, во-вторых, в военные годы у него… н-не все чисто…
Гребнев не обольщался. Если карусель завертится на более высоком витке, если вариантом Долганова увлекутся в области и дальше, то «вяк» в районной газете и будет «вяк». Но пока не завертелось, пока не завелось, надо говорить «а». И Парину уже не выговорить так, как он себя готовит к этому, не выговорить: «б»! А силу нынешнего переболтавшегося газетного слова хоть и можно скептически не переоценивать, но и недооценивать не стоит. Тем более! На фоне вертикально-горизонтального бормотания в газетах, на фоне шамкающего, маразмирующего слога, который ныне принят за норму, даже за образец, – если Гребнев напишет так, как может, то внимание привлечет. Ну, получит по кумполу за разухабистость и непонимание серьезности текущего момента – зато незамеченным не пройдет. Что и требуется.
… Пестунов был в редакции и очень кстати поднял трубку. Сдавленно обрадовался, что очень кстати Гребнев сам позвонил, а то у них тут такое! Парин делает скандал. Да он его именно делает. Гребнев в курсе, да? А Гребнев в курсе, почему Парин делает скандал? И что же Гребнев предлагает, раз уж он в курсе?
Гребнев предложил Пестунову сбацать замену. Гребнев предложил Пестунову сбацать хоть что-нибудь на двести строк – не может у Пестунова не быть ничего в загашнике. Пестунову же ничего не стоит (меньше язвительности в голосе! побольше пиетета и «умоляю!»), Пестунову раз плюнуть: сбацать матерьяльчик, да хоть про что!
Никак Гребнев по фазе сдвинулся! Пестунов как раз собирался «эвакуироваться из обстреливаемой зоны»! И поздно уже, типография взбунтуется, она и так на взводе, в субботу пришлось работать, Камаев с ножницами к горлу пристанет!
Типография потерпит, не впервой, бунтом больше, бунтом меньше! Может Пестунов сделать хоть что-то для друга. Для друга! Может или нет?!
Уговорил, речистый! Придумаем! Сейчас я только Парина успокою. А, вот и он…
Гребнев положил трубку, громко сказал: «Уф-ф-ф!!!».
Злость не ушла, но стала веселой – той, с которой хорошо работается. Та веселая злость, еще та!
Та, с которой Гребнев ходил по краю на монтаже, и не было нормального освещения, только глазастые фонари рубили ночь на ослепительные клинья (Сельянов отруководил: «Объект должен быть сдан хоть тридцать шестого декабря, но этого года!»).
Та, с которой Гребнев на учениях при полной выкладке пробежал, прошел, прополз маршрут, нешумно обезвредил-обездвижил четырех «противников», вышел на кэпэ (Сержант Бочкарев все допытывался: «Ты как его обнаружил? Нет, как ты мог его обнаружить?! Его же никто не мог обнаружить!»).
Та злость, при которой самая трудоемкая и, чего там, нудная работа шла в охотку. А работа Гребневу предстояла трудоемкая и нудная.
Расшифровка – у репортеров это списывание наговоренного текста с магнитофона на бумагу. Сейчас Гребнев ка-ак сядет! Ка-ак расшифрует! Ка-ак не будет он отсекать все лишнее по совету коллеги Пестунова, а все уложит в полосу. Все-все! Сейчас Гребнев заварит себе кошмарной крепости кофе и уж эту ночь проведет с толком. Никакой зуд ему не помешает, а то и поможет – не даст спать! На крайний случай – глюконат кальция! Эффект плацебо, да! Плацебо-цебо-бо-бо-бо! Веселая злость!
Он чуть не подпрыгивал на единственной ноге от нетерпения, выжидая шапку пены, прущую из джезвы. Вот она! Сдерг! А то, что въехал локтем в гирлянду никчемушных ложек-плошек-поварешек, – ерунда! Главное – кофе не сбежал. Кухонная утварь покачалась маятником, укоризненно. И нечего качаться! Не будь вы подарком Валентины, вас бы и не было!
(- Живешь, как не знаю кто! Вилка, ложка, табурет! Как в общаге какой-то!
– Зато однозначно. Нож упал – мужик придет. Ложка -…
– Что – ложка?
– Ты…
– У тебя одна ложка?
– Одна. Одн… Так и будем на кухне?
– Пойдем… Я сейчас только, на минутку… Да! А вилка – кто? Вилка-то – кто, а?
Потом принесла коробку – глаза блестят. Сюрприз! Так и называется «Сюрприз». Набор кухонный. И с увлечением:
– Это мелкая шумовка, это лопатка для блинов, это картофелемялка, это вилка транжирная, это… и не знаю что…
Так они и висели – никчемушными бирюльками.
– Ну, на кой они нужны?!
– Молчи, ты ничего не понимаешь. Это символ. И пригодится… Состаришься, я тебе пюре буду картофельное мять, когда зубов не останется, вот!
– Ста-ар я стал! Волосы седеют! Зубы выпадают!
– Перестань! Ну, перестань! Ну, не на кухне же…).
М-мда, Валентина…
Все-таки одна штуковина сорвалась, продребездела по плите и – на пол. Теперь сгибай свою несгибаемую, местами загипсованную фигуру в поисках. Загадочный предмет: то ли картофелемялка, то ли чегототамдавка – Гребнев так и не усвоил. Упала. Это кто же такой загадочный к Гребневу в гости торопится? Не нож. Не ложка. Черт знает кто и что!
Грянулась картофелемялка об пол и обернулась чудищем невиданным…
Кофе получился. Гребнев предвкушающе потер ладони. Торт с крррэмммом громоздился на столике, настырно «поздравлял», по-прежнему не вызывая аппетита. Ненормальная муха, которая не заснула на ночь, села на цукат и тоже предвкушающе «потерла ладони». Кыш. Теперь и подавно не будет есть Гребнев это… с крррэмммом. Пусть чудище невиданное съест. Или Парин! Придет Парин с грушами еще раз, а Гребнев ему – торт: кушайте, кушайте! Хоть Парин как раз и не придет. Парин теперь официально выразил свое неудовольствие и делает скандал. Еще, чего доброго, на самом деле вызов на сессию задробит. «Поздравляем!» Есть с чем!
Кофе действительно получился. Настоящий, без сахара. Необходимой кошмарной крепости. И можно, как ненормальная муха, не спать, а работать…
Работать отменно! Нога сама нашла оптимальное положение, не мешала. Зуд спрятался. Магнитофон никаких забастовок не объявлял. Клавиша «паузы» не западала, исправно отщелкивалась после каждой остановки. Наверное, мельник благотворно влиял на аппаратуру – незримо, но голосом присутствовал. И влиял.
Работалось отменно!
«Иной раз и рассердишься на нее. Когда вдруг закапризничает. Старая уже, характер бесов. Упрется – и колесом не пошевелит. А то жернов вертит, как юла, да напоказ этак. Стремно, а без толку, с зазором. Ну, накричу на нее… Потом, правда, миримся. Вот я ей все обещаю турбинку. Вместо наливного колеса поставлю. Обнова!..».
«… Он себе растет и живет. Много ли ему осталось? Старик совсем, макушка лысая, и жук изъел. А эти-то! Спилить, спилить! Пусть сначала хоть какой прутик в землю приживут, и чтобы тот гораздым деревом стал. А то: спилить! Я им спилю! Я им головы-то каждому спилю, вот откуда тараканы-то брызнут кучей!».
«… Герр Донат ихний все мне журнал какой-то разлинованный совал: заноси, мол, в него все до грамма. Непонятный какой-то журнал, сложный. Где уж нам, необразованным, в нем разобраться! Ну, раз уж надо, то, конечно, запишем чего ни есть в тот хитрый журнал. А для себя в книжечке черкнем. Так что даже не мешком, а подводой хлеб в лес шел…».
«… В плену-то. Жалкие какие-то. Вот глаза у них не волчьи уже, а собачьи какие-то, бродячие. Тоже люди. Горазд плохие. Но люди…
Потом, значит, незадача такая получилась – трех недель не прошло моей службы и… То я конвоировал, а то меня…».