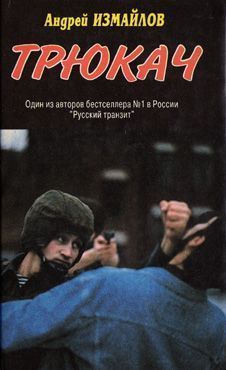– Кабан? Спишь?
– Нет. Трахаюсь. Ломакин, ты?! Ты откуда?
– Из Баку.
– Ага! Я и гляжу – черт-те что высвечивается! Старикан! Тут у нас дела! Хорошо, что ты в Баку. Я так и думал. Так и сказал. Старикан, тобой очень серьезные люди интересуются. Не по телефону, понял? Старикан, ты, конечно, крутой у нас, но ты бы так не шутил.
– Как – так?
– Старикан, я не знаю. Говорю тебе, серьезные люди интересуются. Ты меня ПОНИМАЕШЬ?
– Не совсем. Какие люди?
– СЕРЬЕЗНЫЕ. Они со мной сегодня говорили, спрашивали.
– А ты?
– Я сказал: он, кажется, в Баку, на съемках. Я же не знаю. Я же ТОЧНО не знаю. А этим людям врать нельзя, старикан. Ты меня понимаешь?
– Нет. Что за люди, Кабан? Что ты им еще сказал?
– Ничего. Ничего, старикан. Они спросили, где ты можешь быть. Говорю: понятия не имею, в Баку… А если не в Баку? Говорю: что я, его под кроватью прятать буду, сами смотрите! Ну… назвал для отмазки пару человек.
– Кого?!
– Да брось, старикан. Они мне верят, я сказал: ты в Баку. Какие проблемы!
– Кого?!
– Да Катьку твою. И этого… у тебя друган такой… черный. Пурген. Помнишь, ты нас знакомил? Еще пили вместе – в журдоме. Слушай, какая разница!
– Зачем? Зачем назвал?
– Все херня, старикан. Все херня, кроме пчел, и пчелы тоже херня. Как там в Баку? Жарко?
– Жарко. Кабан, а почему эти… серьезные люди у ТЕБЯ спрашивали? Про меня. Почему?
– Старикан! Ты знаешь, что у тебя на квартире – три жмурика? Я сводку смотрю: адрес знакомый! Я сразу туда. Точно! У тебя. Это хорошо, что ты в Баку. Ты в Баку, старикан?
– Сомневаешься? Я спросил: почему эти… серьезные люди у тебя спрашивали? Серьезные люди – кто? Менты?
– Брось, старикан! Менты – это несерьезно. Старикан, ты бы отдал им то, что им нужно. Они все равно возьмут.
– Что именно?
– Пленки какие-то. Они на меня-то как вышли? Мы же с тобой сценарий делали? Вот они и вышли. Говорят, ничего он у тебя не оставлял? Ничего. Им лучше не врать, а я и не соврал. Говорят, а у кого он еще может быть или вещи оставить? Ну, я для отмазки назвал пару человек. Херня все, старикан. Если понятия знать, всегда поладить можно. Кого ты там, кстати, в квартире оставил? Стой, я тебе сейчас зачитаю, рассказывать дольше… – и Кабанов зачитал свою собственную цидулю из газеты, той же, что лежала перед Ломакиным на коленях. Только разок запнулся, пропустив фразу: «Бывшему каскадеру и несостоявшемуся режиссеру, скорее всего, так и не удастся теперь закончить фильм, на съемки которого уже ушло по меньшей мере полмиллиарда». – Ну? Что молчишь?
– А что бы ты хотел, чтобы я сказал?
– Старикан, мы, кажется, друг друга не понял. Или ты меня не понял. Да! А ты почему мне позвонил?
– С-с-скучаю! – Ломакин дал отбой.
Знай он, что на Кабана выходили и вышли «серьезные люди», – не стал бы звонить. Позвонил – значит, жив. Хотя взрыв в метро, унесший жизнь «Ломакина», – еще позавчера. Вот ч-черт! Проявился после смерти! Кому проявился? Кабану! То ли обличителю, то ли воспевателю «серьезных людей». Где та грань? Вот она, грань. На Гургена, в комнату на Большой Морской, «серьезных людей» навел Кабан. Так, походя, для отмазки, все херня, кроме пчел. Пули, кстати сказать, жужжат мимо уха как раз пчелами. А Ломакин-то в глубине души, на самом дне души все же хранил шанс – если что, все-таки обратиться к Кабану. Не за помощью, но так – «Три дня Конторы», знаете ли. «Дело о великанах», знаете ли. Пресса…
Теперь же сиди и гадай-выгадывай, начнет ли тут же обличитель-воспеватель названивать «серьезным людям»: вы спрашивали давеча, так вот только что как раз звонил…
Вряд ли. Инициатива наказуема. Все же Кабан из самосохранения будет блюсти имидж криминального репортера, который и с этими – вась-вась, и с теми – вась-вась, и сам по себе независимый. Спросят – скажет (этот? этот скажет! все херня, кроме пчел! а что такого?!). Не спросят – промолчит, пока не спросят. Иначе попадет в зависимость, и еще какую!
Ладно! Все! С Кабаном – все. Он, Кабан, так и так не поймет, какую… свинью… подложил собственной персоной. Или будет изображать, что не понял. А что такого?! Все, Кабан, все. Ни видеть, ни слышать, ни думать.
Ни о чем – до завтра.
Легко сказать! Поди попробуй!
Купить, что ли, «мерзавчика» все-таки?! За помин души Гургена Джамаловича Мерджаняна. Если бы он, Гурген, не полетел в Баку… Если бы Гурген остался в Питере…
И что? Остался бы, а «серьезные люди» по наводке бравого Кабанова заявились бы к Гургену: ты друг Ломакина? он у тебя ничего не оставлял? мы посмотрим!… Реакция эмоционального Гургена предсказуема, ответная реакция «серьезных людей» и того предсказуемей.
Э-э, что теперь гадать!… Заводская? Точно заводская? Точно не «катанка»? Ну смотри, паренек! Если «катанка» – вернусь, ею же твой ларек оболью и подпалю! Понял?!
Не «катанка». Заводская. Он, загнав «вольво» назад в бокс, закрылся, шумными глотками опустошил «мерзавчика», откинул сиденье и полулег. Провалился в сон почти мгновенно. Натощак ведь, так и не поел ничего. Мы кушаем и запиваем, говорил Гурген. Они пьют и закусывают, говорил Гурген. Ломакин даже не закусил. Завтра, завтра…
Завтра он опустошит еще одного… м-мерзавчика. Завтра он закусит… удила. Завтра. В четверг. После дождичка. Снаружи шуршит. Это дождь. Весь день было душно. Очень душно. Назревало. Разразилось. После дождичка. Снаружи шуршит. Это дождь. Весь день было душно. Очень душно. Назревало. Разразилось. После дождичка в четверг. Черви выползают наружу. Час червей. Он прошел. Час бубны. Он миновал. Час крестов. Он вот он, на исходе. Который нынче час? Час пик? Да, надобно поторопиться – час пик. Иначе – час вины. Древние водку называли вином. Вот Ломакин и устроил себе небольшой час вины, час вина. За помин души друга Гургена.
А когда наступит час вины, Ломакину самому решать, кто виноват. Кабан… Слой… крошка Цахес… «Петр-первый»… анонимные бойцы… крутые крыши… он сам… Он сам и решит, сам и реш-ш-ш…
… ш-ш-ш…
… шур-шур-шур… это дождь… это четверг…
Эмоции эмоциями, но поутру их лучше оставить там, во сне. На то и сон, чтобы скинуть в него все эмоции. Утро мудреней. Без эмоций, Ломакин! В бизнесе их нет. В твоей работе их тоже нет. Отключись от эмоций и включись на имитациюэмоций, когда придет момент сыграть бурную эмоцию, а пока – не надо.
Он сознательно повторял про себя «эмоции-эмоции-эмоции», пока слово не потеряло всяческий смысл. Аутотренинг, если угодно. Слово потеряло смысл, работа обрела смысл.
Хотя со стороны кто бы глянул: бессмысленной работой поутру занимается Ломакин! что ему, делать больше нечего?!
Он не спеша, тихоходом проехался на «вольво» мимо оставленного вчера «жигуля» – за ночь почему-то не ободрали, бывает-бывает. Потом покрутил по улицам и выбрался на Невский, далее – до Московского вокзала (давненько, что называется, мы здесь не были!), далее, мимо вокзала, чуть-чуть по Старо- Невскому и – поворот на Суворовский проспект. Прямиком почти до Смольного. Но не до Смольного – свернуть влево, не доезжая. Ага, еще свернуть. Вот здесь, на богом заброшенной Тверской, и стопанемся, и припаркуемся – от громадины «Ауры плюс» по прямой метров пятьдесят, по закоулкам – все двести-триста. Ниче! Для Ломакина триста метров – не круг, прогуляется. Не сейчас. Потом. Рано пока! Семь утра.
Он пешочком прошел от Тверской назад к Суворовскому. Поймал «частника». Обратно, к площади Труда. Вышел. Прогулялся. До оставленного вчера «жигуля». Открыл без ключа. Сел за руль. Двинулся. Все туда же, к «Ауре плюс», но на сей раз тормознул не на задворках, а у парадного подъезда. Вот парадный подъезд. Торжественный день. Солоненко с каким-то испугом…
С каким-то не тем испугом. Не с ужасом живого, перед которым вдруг возникает мертвец, доподлинный мертвец… Нет. С мимолетным испугом, когда тебя внезапно окликают из-за спины и ты вздрагиваешь, оборачиваешься и с облегчением выдыхаешь: «Уф! Ну ты меня напуга-ал!».
Я убью его, может быть, в этот раз, подумал Ломакин дорогой. Мельком подумал, не как об окончательно решенном, но как о вполне вероятном. Весьма вероятном – что-что, но в магазин «вальтера» теперь-то Ломакин вогнал все пятнадцать патронов, что-что, но перед солоненковцами, когда и если возникнет форс-мажор, незаряженным пугачом лучше не размахивать, лучше зарядить – уж у солоненковцев- то не пугачи, если вспомнить «комнату Синей Бороды» на Большой Морской.
Ломакин, сидючи в «жигуле», ждал. Он был у центрального входа в восемь. Если Слою с утра не в банк, то он, Слой, появится в девять. Если же ему, Слою, – в банк, то придется куковать до часу дня. Ого! Тогда, если из банка Слой появится вместе с Антониной – главный бухгалтер как-никак. Нежелательно бы. Желательно бы Слоя одного, без сопровождения. Он, Ломакин, сам его сопроводит. Антонина же по идее должна была в семь, ну в полвосьмого, получить факс из Баку: свидетельство о смерти некоего Ломакина Виктора Алескеровича.