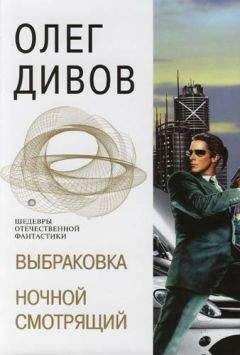– Еще один «смотрящий вниз»?! – усмехнулся я горько. – «Что-то нас здесь слишком до хера!» – так говорил Шрамковский.
Так он действительно говорил, мой задушенный приятель, обитающий ныне в солнечной Калифорнии на берегах одноименного залива.
– Я не убийца. – Убрав пистолет, вместо него я достал из кармана пятирублевую монету. Я игрок. И вы, Иннокентий Парфенович, игрок. Сыграем?
– Ну-ну! – Вершинин за мной наблюдал и, наблюдая, все понял.
Он про меня, наверное, давно все понял.
– Игра простая. – Переворачивая в пальцах монету, я объяснил правила. – Вы «орел»…
– О нет! Это вы у нас – «орел», – язвительно отозвался банкир.
– Пусть я. Тогда вы – «решка». – Мне было все едино. – Кому выпадет, тот нынче завещание напишет, а завтра и в путь!
– Пятьдесят процентов! – предложил Вершинин. – И без мальчишества! Это тридцать два миллиона долларов, Александр! Подумайте! Мало чья жизнь столько стоит.
«Руслана – стоит, и Марины – стоит, – подумал я. – Да и Штейнберга». И покачал головой.
– А если я сдамся властям?! – сделал еще одну попытку Иннокентий Парфенович. – Заклунный там, кажется, дело ведет?!
Все-то он знал. Абсолютно все.
– Дело закрыто, асессор, – пожал я плечами. – Теперь я его веду.
– Ну, как желаете! – устало махнул рукой Вершинин.
– Кто бросит? – спросил я, глядя ему в глаза. – Я бросил вызов, так что по дуэльному артикулу – вам право.
– Своя рука – владыка! – развеселился вдруг Вершинин.
Он взял монету, взвесил ее и подкинул вверх. Монета, вращаясь, описала дугу и глухо звякнула о надгробие, близ которого мы стояли.
«Статский советник Михаил Антонович Прокопович-Антонский, – было выбито на эпитафии. – Веруй пославшему мя имать живот вечный: и на суд не приидет, но прейдет от смерти в живот». «5 рублей» – было выбито на монете, лежавшей чуть ниже.
– Вам удача! – спокойно признал Вершинин. – Везучий вы, Александр! Я сразу подметил. Вот и Ванечка, упокой Господь его душу, так считал!
«Вот тебе и раз! А говорил, будто в Бога не верит!» – Я подобрал монету и, не оглядываясь, пошел по аллее.
В тот день, как и многие прихожане Донского монастыря, стал я очевидцем сногсшибательного чуда. Воистину конец тысячелетия, сотрясенного катаклизмами и жестокими войнами, должен был завершиться чем-то подобным. А все началось с заурядной драки, завязавшейся между нищим, судя по клетчатому пледу, наброшенному на плечи его, представителем здешнего шотландского клана и кем-то из глухонемых интервентов. Постепенно в бой втягивались свежие силы с обеих сторон. И тут, на глазах у ошарашенных паломников, оборванец-пушкинист с болтавшейся на шее табличкой «Никогда не подавляй искренний порыв!» испустил гортанный вопль. Причиной тому явилось вырастание ампутированной ноги, сопровождавшееся, несомненно, побочными болезненными процессами. Размахивая уже явно лишним протезом, исцеленный врезался в самую гущу потасовки. Но чудеса на этом не прекратились. Даже чудо, сотворенное героем Кторова на празднике святого Иоргена, осталось посрамленным и отступило далеко на задний план перед тем, что содеял Гудвин в следующее мгновение, ибо великий чародей немого кинематографа так и не смог вернуть своему пациенту дар речи. Гудвин же добился поразительных результатов одним взмахом своей деревяшки. Отлетевший в сугроб глухонемой, видимо, вследствие полученной черепно-мозговой травмы разразился таким отборным магом, что сурдопереводчик, окажись он поблизости, только руки бы опустил.
Впрочем, задерживаться и ожидании новых cверхъecтественных событий я счел для себя испытанием чрезмерным. Большая Ордынка была недалече, и, пользуясь случаем, я предпочел навестить, проницательного своего товарища Митьку Вайса.
Непримиримый и суровый, как и я сам, Максвелл привычно меня облаял. Согласно утверждепню доцента Кефирова: «Болтун болтуна видит и с бодуна». Фарадей же – великодушно простил и ткнулся длинным сухим носом в мою штанину.
– Греби сюда! – крикнул Митька, выглядывая из столовой. – Хорошо, что заскочил! Я на Филиппины собираюсь!
Как связаны эти два обстоятельства, я так и не понял. Митька укладывал в кожаный, видавший все, должно быть, виды саквояж теплые шерстяные носки.
– Оттуда – в Мурманск! – пояснил Вайс, заметив мое изумление.
– Ну тебя бросает! – Я сел в кресло и поставил на журнальный столик бутылку армянского коньяка. – Пятерка тебе, старик, за домашнее задание!
– Пять звездочек?! – Вайс достал из буфета рюмки. – Коньяк, оно известно, как и наш человек, выдержки требует! В Анкаре, скажем, номер пятизвездочного отеля теми же клопами отдает. Лично у меня выдержки на трое суток хватило. Так что – все от разлива зависит!
– Это мы уже от Ленина слышали. – Я поднял рюмку с темной густой жидкостью.
– Значит, все-таки шахматы, – отметил Митька, нарезая лимон. – И кто же победил?
Фарадей запрыгнул ко мне на колени. «Ты не зазнавайся! – предупреждали его глаза. – У нас этого не жалуют! У нас так!»
– Победила дружба, – потрепал я его по кофейной спине.
– А ты-то что делал все это время?!
– Глупости, – не стал я греха таить.
– Да ну! – Вайс посмотрел на меня с интересом. – И как же ты выжил?!
– По глупости.
– Я верю. – Он выпил коньяк и закусил прозрачной долькой. – «Я верю, – как признал Тертуллиан, – ибо это абсурдно».
Память у Вайса на цитаты не хуже моей. Но, против меня, у него и с числами все в порядке.
Вершинин умер той же ночью. Умер, как подобает «белому королю» или опальному римскому сенатору: лег и ванну с горячей водой и вскрыл себе вены бритвой. И он был не первый московский банкир, избравший местом смерти емкость для омовения. Детали я узнал от Заклунного. Иннокентий Парфенович оставил после себя довольно странную записку: «В моей смерти прошу винить пятицелковый!» Будет над чем голову следователям поломать. И в последние свои минуты Вершинин посмеялся над трагедией жизни, ибо принадлежал он к той заносчивой касте избранных, что считают себя «смотрящими вниз».
До нового, 2000 года оставалось всего ничего: 3 часа 15 минут.
– Думаешь долго, Саня! – Кутилин, подскакивая от нетерпения на табурете, чистил рыбу.
Серебряные чешуйки, словно блестки, разлетались вокруг стола. Несколько угодило на игровое поле. Их маленькие шашечки, блестящие на черно-желтых квадратах, делали нашу дуэль похожей на двоеборье.
В голове моего соседа, разумеется, уже созрела хитроумная комбинация, долженствующая привести его после стремительной фланговой атаки к долгожданной виктории. Мой ход в этом свете представлялся ему чистой формальностью и глупой затяжкой времени. К тому же – умышленной.
Великолепный Шилобресв, прищемив худыми коленями бутыль испанского портвейна, пробовал тем часом одолеть при содействии штопора упорное сопротивление пробки. Никудышная пробка бессовестно крошилась, и штопор уже раза три выле тал вхолостую.
– Вот сволочной поплавок! – пыхтел Шилобреев. – Совсем делать разучились! Сальвадор Дали помер – и все прахом пошло!
– Внутрь надо протолкнуть, – посоветовал Егоров, опутывая проводами нелегальную елку, с утра конфискованную им у браконьеров, опустошавших в канун очередного тысячелетия подмосковные леса.
– Протолкни, – согласился Шилобреев.
Палец участкового оказался диаметром шире импортного горлышка. Шилобреев протянул ему карандаш.
– Сам заточить не можешь?! – возмутился Егоров, меняя указательный на мизинец. – Художник! Откуда у вас только руки растут?!
– Сдаешься?! – обнажив сушеную воблу, спросил меня Кутилин и потянулся за распечатанной «Балтикой». – Эй! Виночерпии! Предлагаю старый год пивком проводить!
Бутыль портвейна тотчас была отправлена в отставку, и Егоров с авангардистом вооружились бокалами.
– Где поставить?! – Маленький Ли с большой сковородой тушеных овощей вбежал н студию и завертелся в поисках подходящего мест.
– Не перебивай, когда старшие пьянствуют! – пожурил его Кутилин. – Ставь, куда хочешь! О чем бишь я?! Ах да! Итак, други мои, старый год приказал нам долго жить! Обещанного Мишкой Нострадамусом конца Света мы так и не дождались! Да будет свет! Кстати, Егоров, свет-то будет?
– Электрификацию всей елки закончим в срок!– отрапортовал участковый.
– Тогда предлагаю тост! Кутилин поднял «Балтику». – Стихами графика Пушкина! «Поднимем бокалы, содвинем их разом; да здравствует музыка!..»
– Музы, – поправил его Егоров.
– И музы! – согласился Кутилин. – Короче, за все достойное! Ваши бабки, господа!-
– У меня нет, – заскучал Шилобреев.
– Это мой новый тост, – утешил его Кутилин.– Другие говорят: «Ваше здоровье!», а я говорю: «Ваши бабки!» За процветание, значит!