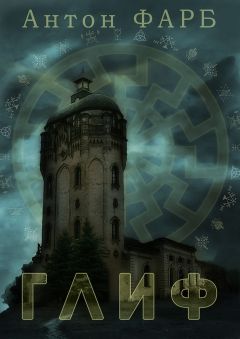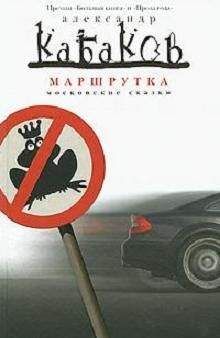Радомский всегда видел цель. И никакой хмырь не станет у него на пути. Блядь, да я сыном пожертвовал ради цели!!!
— Все, — сказал Белкин. — Почти готово.
По четырем сторонам карты Житомира он соорудил что-то вроде… алтарей, так это называется? На юге нагреб горку пыли и грязи. На севере — разложил небольшой костерок из обломков мебели и треснувших дощечек. На западе Белкин попросту выбил кусок стекла из оконного переплета, впустив струю свежего воздуха. А на востоке, не придумав ничего лучше, хмырь поссал прямо на пол, оставив лужу мочи.
Все это он проделал, трясясь от возбуждения. Глифы на его торсе (тощем и рахитичном, подметил Радомский, будто бы Белкин похудел разом на десяток кило — у него торчали ребра, и вздулся шаром, как у голодных детей в Африке, живот) перестали светиться и двигаться, слившись в один малопонятный орнамент.
— Давай жертву! — сказал Белкин.
Радомский толкнул пацана в спину. Тот послушно вышел вперед. После гибели Ромчика его как-бы-друг еще чего-то там орал, возмущался, требовал, но, оказавшись в башне, сразу замолк и понуро сник.
— Женя, — сказал Белкин. Он пытался произнести это торжественно, но пустил петуха. — Подойди.
Мальчишка, как зомби, сделал два шага вперед.
— Игру надо остановить, — сказал Белкин. — Пока не поздно. Ты поможешь мне?
— Да, — одними губами произнес Женя.
— Хорошо, — кивнул Белкин. — Стань здесь, — он указал на определенное место на карте.
Радомский нагнулся и украдкой подобрал с пола гнутую арматурину. Остановить, значит… Хрен вам. Он подошел поближе к карте, держа арматурину в опущенной руке.
План его был прост, а потому надежен: когда Белкин начнет ритуал, Радомский двинет ему по башке, и закончит ритуал самостоятельно. И не остановит Игру, а возьмет ее под контроль. Вот уж чего не хватало Игре с самого начала, так это контроля…
Власти.
Белкин помог пацану снять курточку, потом достал откуда-то складной нож, раскрыл его, повернул мальчишку спиной к себе, поставил на колени (тот не сопротивлялся, как баран) и вдруг резко замер.
— Глиф! — сказал он. — Где твой глиф?!
Вместо ответа Женя поднял руку, замотанную окровавленной тряпкой.
— Нету, — тупо сказал он.
— Вашу мать! — прошипел Белкин, и Радомский, напрягшийся было в ожидании решающего момента, опустил арматуру обратно. — Он не подходит! Он избавился от глифа! Он вне Игры!!!
— И что теперь? — поинтересовался Радомский, покачивая арматурину в руке.
— Нужен другой! Другой игрок! С глифом! — Белкин едва не плакал.
Радомский смерил взглядом разрисованное тело Белкина.
— Другой так другой, — пожал плечами он и замахнулся арматуриной.
За спиной у него раздался звон бьющегося стекла и вопль:
— Не смей!!!
Радомский похолодел и выронил арматурину. Голос был Ромкин.
Белкин.
Глупый, надменный, высокомерный, бестолковый, беспомощный Белкин.
Ну кто же еще мог во все это вляпаться?
Только Белкин!
Марина смотрела на своего бывшего (очень, очень бывшего) сожителя со смесью жалости и разочарования.
Каким же надо быть идиотом, чтобы замкнуть Игру на себя?
Ты бы еще в трансформаторную будку залез, дурачок…
Игра сожрала его. Почти целиком. И физически, и психически.
Марина сразу это поняла. Как только прошла сквозь дверь башни и сразу же, минуя лестницу, оказалась наверху, где глупый дилетант-самоучка Белкин пытался управлять Игрой.
А ведь как он пыжился! Как надувал щеки! Не верил! В мистику, в оккультизм, в магию… даже в банальный фэншуй не верил. Ну конечно, мы же не гуманитарии какие-нибудь, мы — технари, нам этот бред не нужен.
А и в итоге? Живой скелет, обтянутый разрисованной кожей.
Хуже всего было то, что глифы слились в один. Это означало, что живой глиф за окнами башни — на улицах Житомира — почти готов.
Белкин, как ни странно, все делал правильно. Если воспользоваться принципом обратной связи (что наверху, то и внизу, о великий Гермес Трисмегист, ты тысячу раз был прав!), и призвать энергию первоэлементов, а потом взять жизнь — главный элемент — в центре глифа, то со стадом баранов с факелами можно будет делать все, что угодно.
Идея была хороша. А вот реализация...
Как всегда у Белкина, все блестящие задумки разбивались о хроническую неспособность хоть что-нибудь сделать. Совершить поступок.
В этом был весь он — недоделанный. Незавершенный. Не до конца. Чуть-чуть не хватило.
Наверное, подумала Марина мельком, за этим я была ему нужна. Чтобы подталкивать в спину. Материализовать его замыслы. Ведь это так просто — как инь и ян. Одно немыслимо без другого.
И ведь он уже почти такой же, как я. Он почти стал… Марине не хотелось произносить это про себя, даже не думать не хотелось — но от правды не уйдешь… Он почти стал демоном Игры.
Как и я.
Значит, я должна ему помочь завершить переход.
Спасти и погубить его одновременно.
Ибо что внизу, то и наверху; что внутри — то и вовне; для исполнения чуда единства.
Марина шагнула вперед и положила руки на плечи Белкину.
Плана действий у Ромы не было и в помине. Будем импровизировать…
Но вместо импровизации вышел облом. Полный. Когда Ромчик, высадив ногой окно, героически, аки бравый десантник, вломился в башню, там происходило нечто загадочное, меньше всего похожее на драку.
Сам воздух в башне казался густым и вязким. Как смола. Медленно застывающий янтарь.
И люди тоже застыли, как мухи в янтаре: в странных позах и с необычными выражениями на лицах.
Клеврет: тупое безразличие ко всему; стоит на коленях. Белкин: экзистенциальный (слово-то какое, а? вот бы порадовалась училка по русскому…) ужас, вытаращенные глаза; отталкивается руками от чего-то невидимого. И отец.
Отец…
Изумление. Испуг. Отвращение.
Длинный железный прут в руках.
Занесен над головой Женьки.
— Не смей! — заорал Рома, и крик его разбил янтарную неподвижность немой сцены. Хрустнула подзастывшая смола, и составные части картинки пришли в движение.
Белкин попятился, размахивая руками, и забормотал:
— Нет! Нельзя! Уходи! Не хочу!.. Не надо! — Голос его угасал, как будто кто-то крутил регулятор громкости.
Отец резко развернулся, вперил в Ромчика горящий взгляд и медленно, словно нехотя опустил, прут.
— Жив, — сказал он. — Молодец. Держи этого психа!
Он имел в виду Белкина, а не Женьку, сообразил Рома. Белкину он собирался дать по башке… а что потом? Ромчик обвел взглядом комнату. Карта из квартиры Загорского на полу; куча глифов — везде; небольшой костер горит прямо у окна, через которое влез Ромчик. И Женька на коленях — точно в центре карты… Как агнец на заклании, пришла откуда-то библейская аналогия.
А когда Ромчик поднял взгляд (на сколько же он отвлекся? Секунда, две? Не больше), Белкин уже исчез.
Вот он был — а вот его уже нет.
Отец оторопело вытаращился на пустое место, а потом метнулся к выбитому окну, по дорогу отшвырнув Ромку, как котенка.
— Пшла вон! — проревел он, выталкивая наружу Нику, успевшую перекинуть ногу через подоконник.
Девушка вывалилась из окна, а Радомский захлопнул решетку, просунул арматурину в пазы щеколды и легко, одним движением, согнул ее чуть ли не в узел.
— Все! — прорычал он злобно. — Хватит фокусов! Никто никуда не уйдет и не войдет, пока я не закончу ритуал!
Господи, подумал Ромка, какой еще ритуал? Отец — и ритуал? Ладно псих Белкин, или там дура Марина, но отец…
А отец ли это?
Человек, которого я раньше называл отцом; человек, который бросил меня на растерзание твари; человек, который вытолкнул Нику в окно; человек, который собрался творить какой-то ритуал — кто он мне?
Что я знаю о нем?
Правильный ответ: ничего.
Страшный, опасный и совершенно чужой мне человек…
— Хватай его, — приказал Радомский, но Ромчик даже не пошевелился. — Ты что, оглох? Его надо вернуть в Игру! Нанести глиф! Иначе от него не будет толку!
— Зачем? — спросил Рома.
— Так надо, — с нажимом сказал Радомский. — Ты потом поймешь.
Женька поднял голову. Вид у него был — как у побитого щенка.
— Они хотят меня убить, — сказал он и беззвучно заплакал.
— Зачем? — повторил Рома.
— Так надо. Ради тебя. Ради меня. Ради всего этого долбанного города. Один сопляк умрет, сотни тысяч спасутся, — негромко, но веско стал излагать Радомский. Каждая фраза его была незыблемым постулатом, отлитым в бронзе. Непоколебимым. — Так устроен этот мир, Ромчик! Кто-то умирает, чтобы другие выжили. Кто-то правит, кто-то подчиняется. Мы с тобой — те, кто правят и живут. Он — из тех, кто подчиняется и гибнет. Ради нас.
— Нет, — сказал Рома. — Нас — больше нет и никогда не будет. Вставай, Женька. Мы уходим. А ты делай что хочешь, наполеон хренов…