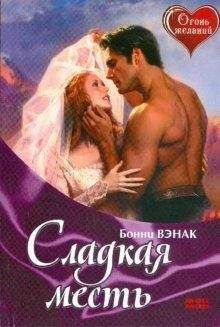— Райнер, — спросил я, когда мы обменялись приветствиями, — нет ли у тебя знакомых в Москве?
— А ты что, собрался в Москву? Потерпи пять лет, пока они не научатся готовить сносную еду. Если же ищешь острых ощущений, поезжай в Берлин. Вот где сейчас дела.
— Я ищу не острых ощущений, всего лишь информацию, и мне нужен человек, который знает там ходы-выходы.
— Это связано с твоей новой книгой?
— Нет, это личное.
— Хочешь вытащить оттуда подружку?
— Ну и зануда же ты! Там умер мой друг. Официальная версия — самоубийство. Но я не верю и намерен докопаться до истины. Вот для чего мне нужен там свой человек.
После некоторой паузы Райнер спросил:
— Этот твой друг был русским?
— Да, — солгал я, из соображений конспирации, что ли.
Он снова сделал паузу и сказал:
— Пожалуй, ты выбрал самое неподходящее время для вопросов. После путча, насколько я знаю, обстановка там очень нервозная.
— Правда? А в наших газетах пишут, что в России новая эра, эра свободы.
— Это тебе не кино, дружище. Вряд ли можно забыть сорок лет страха за одну ночь.
— Значит, никого у тебя в Москве нет?
— Я этого не говорил. Просто советую тебе действовать осторожно. Есть там у меня один человек, занимается тем же, чем я здесь. Мы познакомились, когда пару лет назад делали совместную картину.
— Он мне поможет?
— Возможно. Не могу обещать, но возможно. Жизнь, прожитая в полицейском государстве, не способствует развитию дружеских чувств.
— Как его зовут?
— Василий Голицын.
— Назови по буквам.
Я аккуратно записал его имя.
— У тебя есть его адрес или номер телефона?
— Подожди минутку, надо поискать.
Прошло целых две минуты, прежде чем в трубке снова зазвучал его голос:
— Даю тебе последний номер из тех, что у меня, есть. — (Я записал номер, повторил для проверки.) — Конечно, он мог устареть.
— Ты настоящий товарищ. Я этого не забуду.
— Слушай, когда закончишь с этим делом, приезжай сюда. Тут такое творится после падения Стены! Ты и представить себе не можешь. Так что тебя ждет приятный сюрприз. Непременно приезжай, мы здорово проведем время!
— Очень может быть. Еще раз спасибо.
— Желаю успеха, будь осторожен, дружище!
Когда я летел в Москву рейсом «Аэрофлота», у меня было такое чувство, будто я, словно сказочная стрела Зоро, никогда не доберусь до места назначения. С самого отправления меня стали донимать приступы паранойи — была ли это просто игра воображения или мой паспорт действительно разглядывали больше обычного? Войдя в самолет, я внимательно осмотрел пассажиров. В большинстве своем это были типичные бизнесмены, жаждавшие делать деньги на новом рынке для западных товаров и ноу-хау, но мне в моем взвинченном состоянии их лица казались зловещими.
В «дьюти-фри» я купил два блока сигарет, бутылку скотча и несколько флаконов духов на случай, если придется делать подношения. Помимо этого, я располагал еще путеводителем и координатами приятеля Райнера.
Во время путча я, как и большинство людей, всю неделю днем и ночью смотрел новости Си-эн-эн и, находясь в плену собственных домыслов, не мог поверить, что эти пластмассовые марионетки, так долго нагонявшие на нас страх, оказались столь недалекими. Их некомпетентность в делах, с которыми они, казалось, блестяще справлялись, явилась самым большим сюрпризом тех удивительных дней. Мы были убеждены, что Политбюро уцелеет, а КГБ кинет удавку на любого, кто на что-то надеется. Как и многие, я считал, что реформы, может, и начнутся когда-нибудь, но пойдут медленно. Престарелые роботы, казалось, будут торчать на кремлевских стенах всегда — и в дождь, и в «гласность», любуясь ядерными боеголовками дальнего радиуса действия и марширующими шеренгами Красной Армии. Но вот год назад рухнула Берлинская стена, а за ней и здание. Словно зрители, смотревшие страшную драму из партера, мы вдруг очутились за кулисами и увидели, что актеры, наводившие ужас, — простые смертные в масках, а мрачные декорации сделаны из фанеры и холста. Такие вот мысли блуждали у меня в голове, когда я впервые воспользовался скромным гостеприимством «Аэрофлота».
Первые русские, которых я увидел, прилетев в Москву, очень напоминали людей, уцелевших во время землетрясения. Они радуются, что живы, но понимают, что опасность не миновала. И еще — старики: среди них преобладали женщины, занятые черной работой. Все происходило как в замедленной съемке — словно и часы, и разваливающуюся экономику поставили на тихий ход. Чиновники, проверявшие мой паспорт, вели себя так, будто пришли вторыми в длинной гонке и все еще не могут поверить в неудачу. Таможенники, правда, не моргнув глазом, забрали блок сигарет, видимо желая напомнить, что старый режим еще жив. Остальное не тронули.
Водитель такси сразу поинтересовался, нет ли у меня валюты по курсу черного рынка. Предупрежденный своим агентом по путешествиям, я не удивился и предложил ему несколько фунтов.
— Долларов нет? — недовольно спросил он.
— К сожалению, нет.
Он сносно говорил по-английски и объяснил, что когда-то учился в медицинском, но по доносу одного члена партии вынужден был уйти из больницы, где проходил практику.
— Ну, как революция, будет продолжаться?
— Пока хлеб не кончится, — ответил он. — И потом еще несколько месяцев.
— КГБ больше нет? — спросил я, прощупывая его.
Он перекрестился.
— Кто знает? Может, опять приползут, под другой вывеской. В России ничто не исчезает навеки.
Я заказал себе место в гостинице, где в свое время Генри обнаружили мертвым. Она произвела на меня впечатление deja vu[16]: я так часто описывал подобные здания с мрачной росписью, что стоило мне войти в многолюдный вестибюль, как все показалось на удивление знакомым. В неряшливого вида фойе было настоящее вавилонское столпотворение голосов, эхом отражавшихся от мраморных стен. Здесь, как я понял, собрались журналисты разных стран. Несколько групп телевизионщиков вместе с добросовестными русскими переводчиками разрабатывали маршруты на следующий день. У окошка регистрации я услышал английскую речь: «Это все говно! Скажи им, что нам нужно спутниковое время сегодня вечером. Завтра будет поздно». На то, чтобы найти мне номер и заполнить все бумаги, ушло добрых двадцать минут. Процедура скорее напоминала оформление пожизненной страховки, чем проживания в гостинице на какие-то несколько дней.
Потом пожилой коридорный в потрепанной униформе, точнее, ее подобии, проводил меня на седьмой этаж. Пока он отпирал дверь, я заметил, что на нем разные ботинки. Сама комната была чистая, но обстановка спартанская. Мебель представляла собой пестрое собрание реликтов прошлого. Я словно попал в какое-то обесцвеченное зазеркалье: кинофильм на цветной пленке «техниколора» внезапно превратился в черно-белый.
Я щедро одарил старика. Он сразу оживился, рассыпавшись в благодарностях, и посвятил меня в тайны древней ванной комнаты. Если бы я описывал ее в романе, то особое внимание уделил бы запахам: там пахло капустой, как в кухне у моей престарелой тетушки, где в школьные годы я проводил каникулы, и еще чем-то затхлым. Воспоминание это было настолько ярким, что я без дураков обследовал комнату на предмет «жучков» и снял со стены единственную гравюру в рамке, чтобы посмотреть, не спрятано ли за ней что-нибудь. Памятуя о цели своего приезда, особенно тщательно я осмотрел уборную. Несколько металлических вешалок стукнулись друг о друга, когда я открыл в нее дверь. С первого взгляда было очевидно, что самоубийство в такой тесноте маловероятно. Тем не менее я повторил эксперимент, проведенный в Лондоне. Войдя внутрь, обнаружил, что голова достает до тонкой деревянной перекладины и подняться выше невозможно.
Распаковав нехитрые пожитки, я рассовал по карманам несколько пачек сигарет и стал обдумывать первые шаги. Райнер сказал, что его друг — человек надежный, но я решил не принимать этого на веру: в стране, где почти пять десятилетий господствовал страх, перемены не могли быть легкими. Аккуратно выучив первые фразы из разговорника, я поднял трубку первобытного телефона и назвал гостиничному телефонисту номер Голицына. После долгого ожидания меня соединили. Ответила девушка, по-русски.
— Могу я поговорить с господином Голицыным? — едва выговорил я.
— Кто его спрашивает? — Кажется, я правильно понял то, что она сказала.
— Вы говорите по-английски? — спросил я уже на родном языке.
— Да, немного. — На самом деле у нее было очень хорошее произношение. Мне всякий раз становится стыдно, когда я вижу, сколько иностранцев овладело нашим нелегким языком, в то время как немногие из нас пытаются изучить другие языки.