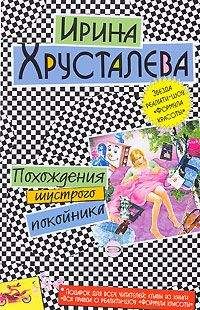***
Силовики тянули несколько дней. Сначала с Нестеровым снова поговорил Расков – и убедился, что тот не собирался отступать от своего ультиматума. На следующий день Нестерова вызвали в допросную, где его ждал следователь из Следственного Комитета, который уже несколько раз допрашивал арестованного – фамилия следователя была Мальцев. Он обстоятельно и подробно распросил Нестерова обо всем, что тот сказал в ходе допросов ранее. Еще раз поинтересовался условиями Нестерова, при которых тот согласен пойти на сделку.
Нестеров повторял одно и то же – и Раскову, и Мальцеву. Он был готов назвать имена и обрисовать всю схему – по крайней мере, ту ее часть, о которой ему было известно. Но лишь при условии, что его проведут по программе защиты свидетелей государственного обвинения. С обязательной охраной на время следствия и суда. И с гарантией, что после приговора над уцелевшими членами банды и их истинными руководителями, которых согласится назвать Нестеров, ему позволят исчезнуть. Новое имя, новый адрес, новая жизнь.
В этот вечер, сидя в одиночной камере изолятора и уплетая нехитрый ужин, который принес конвоир и просунул в узкое оконце в металлической двери его казенного пристанища, Нестеров думал, куда он поедет. Он был на самом деле готов назвать имя. Это было правильным. Потому что взамен он получал свободу.
Нестеров всегда хотел жить на море. Теперь у него был такой шанс. Он переедет куда-нибудь в Анапу, или в Геленджик, где бывал лет 15 назад с родителями. Или даже в Сочи. Устроится там водителем или таксистом. В курортный сезон, об этом знали все, на Черноморском побережье крутились огромные деньги.
А обо всем остальном он забудет, как о страшном сне.
Кашлянув, Нестеров не придал этому значения. Запихнул вилку с макаронами в рот и вернулся к своим авантюрным мыслям. Но затем он кашлянул снова, на этот раз гораздо сильнее. Макароны вылетели изо рта и рассыпались по столу и стоящей на ней жестяной тарелке.
Нестеров опустил глаза и с изумлением увидел, что частично пережеванные в кашу макароны, покинувшие при кашле его рот, были подозрительно красного цвета.
Все еще недоумевая, Нестеров провел тыльной стороной ладони по губам. На коже остался кровавый след. Он открыл рот и засунул пальцы, проведя по зубам. Пальцами Нестеров почувствовал что-то тягучее и теплое. Вытащив их, Нестеров похолодел и внутренне содрогнулся. Пальцы были в крови. Капли свежей красной крови стекали по коже к ладони и костяшкам.
Паника захлестнула его с головой. Нестеров попытался вскочить, броситься к двери и заорать что есть силы, привлекая внимание дежурного конвоира. Тогда его спасут и все будет в порядке. Но тело почему-то одеревенело и не слушалось – оно было словно чугунным, словно чужим. Даже подняться на ноги Нестерову удалось с большим трудом. Он открыл рот, чтобы закричать, и вдруг понял, что не может вымолвить ни слова. Он просто промычал, и с мычанием поток крови вырвался из его глотки, стремительно преодолел пространство внутри ротовой полости и хлынул на грудь.
Нестеров чувствовал, как он истекает кровью, но ничего не мог с этим поделать. Жуткий липкий ужас сковал все его тело. В глазах потемнело. Последней его мыслью было понимание того, что его достали гораздо раньше, чем он мог предположить. А потом Нестеров рухнул на стол. Он снес своим телом тарелку с макаронами, которая, звеня, отлетела в угол камеры, и начал медленно сползать со стола. В этот момент Нестеров чувствовал лишь конвульсию, которая родилась где-то в груди и выталкивала кровь из его организма, которой он заливал себя и привинченный к сырому полу тюремный стол.
Когда Нестеров сполз со стола и рухнул на пол, он был уже мертв.
Жизнь продолжалась.
Еще через несколько дней Рябцев привез Бегину в палату небольшой телевизор. Довольно старенький, – по словам Рябцева, это был их первый с Викой телевизор, который отправился в кладовку и пылился там четыре года с тех пор, как они купили плазму. Рябцев даже приволок антенну и потом долго ее крутил и настраивал, ловя сигналы. Все, чтобы отвлечь Бегина от многочасового созерцания больничного потолка.
В один из дней к нему в больницу приехал Кашин, прямой руководитель – шеф отдела по расследованию особо важных дел главного следственного управления СК. Кашин чувствовал себя неуютно, через каждое слово смущенно кашлял и боялся встретиться взглядом с подчиненным.
– Как… Как самочувствие, Саш?
– Бывало и лучше.
– Но бывало и хуже, да?
Бегин улыбнулся.
– Да, Матвей Геннадьевич. Бывало.
– Говорят, у тебя эта твоя дисфункция пропала? Не знаю, хорошо это или плохо. Но на всякий случай, наверное, поздравляю.
– Боль – не самое приятное в жизни ощущуние. Но она хотя бы дает тебе понять, что ты действительно существуешь. Так что спасибо. Как дела на работе? Что нового?
– Как обычно, Саш, ты же знаешь. Работаем. Меньше работы не становится. Такая служба.
– Что нового по делу?
Кашин тяжело вздохнул, снова кашлянул.
– Тут такая история, Саш… Нелегко говорить. Но я решил, что тебе лучше узнать это от меня, чем от кго-то еще.
Бегин насторожился.
– Что?
– Тебя… Тебе придется уйти из комитета. Из-за ранений. Ты пойми… Тогда, десять лет назад, для тебя сделали исключение. Ты был молод, ты восстановился, а еще ты уже тогда был хорошим специалистом, лучшим в своем подразделении. Я забрал тебя к себе, под свою ответственность. И ни разу не пожалел об этом. Хоть ты и своенравный парень, с заскоками иногда… – Кашин вздохнул. – А теперь тебя снова едва вытащили с того света. Я очень рад, что ты выкарабкался, пойми. Но боюсь, что по состоянию здоровья ты не сможешь больше работать. Это не мое решение, мне велели просто донести до тебя. – Кашин снова вздохнул и повторил: – Мне очень жаль, Саш.
Бегин молчал, он был в прострации. Половину его сознательной жизни работа была для него всем. Той единственной отдушиной, ради которой вообще имело смысл жить такому, как Бегин. Теперь его лишили и этого. Бегин понимал, что это справедливо – после последних ранений он вряд ли сможет бегать, как молодой. Но чувство, что его предали и лишили всего, от этого понимания меньше не становилось.
Но жизнь, как ни удивительно, продолжалась. Просто теперь она оставила Бегина за бортом.
Рябцев больше не вспоминал о первом и последнем громком уголовном деле в ходе своей полицейской карьеры. Его жизнь шла своим чередом, размеренно и однообразно. Рябцев уже начал привыкать, что утром ему не нужно было подскакивать и нестись на службу. Он начал привыкать, что он больше не полицейский. И что дома его никто не ждет. Каждый день он видел лишь пустые стены. Это было невесело – но Рябцев начал привыкать.
Каждый день он навещал Бегина. Через несколько дней стало понятно, хотя вслух этого так никто и не произнес, что общение начинало тяготить обоих. Кроме банды ДТА, странным образом объединившей их на довольно короткое время, у них не было практически ничего общего. Тогда Рябцев стал приезжать реже, но все равно появлялся. Он был обязан Бегину жизнью.
С Викой он не виделся. Лишь один раз они созвонились: после того, как Рябцев обнаружил в своем почтовом ящике письмо. В нем говорилось, что Виктория Рябцева подает на развод. Рябцеву предлагалось явиться через несколько дней в здание ЗАГСа, где они могли обсудить со специалистом все формальности, необходимые для расторжения брака. Тогда Рябцев позвонил ей. Слыша ее холодный голос, бывший опер, к своему удивлению, обнаружил, что ничего не чувствует. Вика для него умерла.
Он был рад. Теперь можно было попытаться начать жизнь заново.
Жизнь продолжалась.
Федор Уколов покинул стены больницы в Москве, где лежал последние несколько недель. Здесь его каждый день навещали друзья. Окрепший и уже забывший о ранении в ногу Нос и остальные ребята. Они живо обсуждали дела их сообщества стритрейсеров, которое за время отсутствия Федора пополнилось новыми людьми. Историю банды ДТА, которую все-таки поймали. Все были уверены, что они приложили к этому свою руку, и гордились собой. Травили байки и анекдоты. Громко смеялись – так, что дежурная медсестра ругалась и угрожала больше никого не пускать. Друзья были рядом все время, но забрать его из больницы Федор все-таки попросил Свету.
Всю дорогу домой Пашка принюхивался к сидевшему рядом, на заднем сиденье маминого красного «пежо», Федору.
– Чем от тебя пахнет, Укол?
– Больницей, чем же еще.
– Я когда лежал в больнице, от меня так не пахло.
– Это ты так считаешь! – хмыкнула Света. Паша насупился. – И хватит называть его Укол. Как гопники какие-то, честное слово. Дядя Федор.
– Как в «Простоквашино», что ли?
– Как в паспорте, что ли.