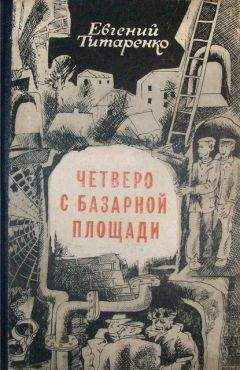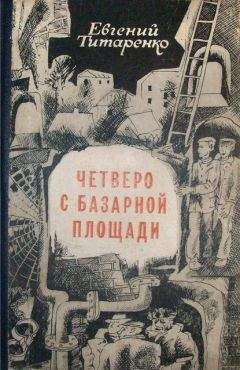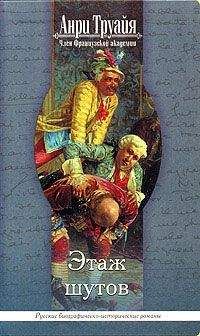Евгений Титаренко
Четверо с базарной площади
Бывший монастырь примыкал вплотную к городскому базару, так что в торговые дни, выходя за калитку, Генка сразу окунался в стоустую базарную толчею.
Этот бывший мужской монастырь называли чаще старой баней, так как единственное, похожее на крепость строение его, закончив в 1917 году свою религиозную карьеру, служило поочередно то казармой, то горкомхозом, одно время даже тюрьмой, а в годы войны — баней. Потом кто-то надумал снести его: полуразвалил третий, чердачный этаж, сделал проломы в толстых стенах второго и… раздумал.
Теперь в единственной келье второго этажа в левой половине бывшего монастыря жил Генка, а под ним — в единственной келье нижнего этажа — Славка, или Слива, как звали его на улице.
В город они приехали почти в самом конце войны, года полтора назад, вместе с отцами, которые у обоих работали на железной дороге.
От монастыря в распоряжении друзей остались многочисленные переходы на втором этаже и узенькая лестница на третий, от бани — искореженные обрывки водопроводных труб, проржавевшие секции радиаторов и бездействующая котельная в подвале.
В правой половине бывшего монастыря была заново отремонтирована лишь одна квартира в нижнем этаже, которую занимал отставной полковник-артиллерист, потерявший на фронте руку и глаз, что делало его чуточку похожим на пирата. Но он и одним глазом видел лучше, чем Генка двумя, а левой рукой владел так, будто правая ему и не нужна вовсе. Вот только седыми Генка никогда не представлял себе пиратов.
Полуразвалившаяся часть здания служила прибежищем для бездомных кошек, и они протяжными воплями будили обитателей монастыря задолго до рассвета, когда еще и петухи спали.
Здесь, в мужском монастыре, был дом Генки и Сливы. А школа находилась в центре, на Садовой, и волею случая тоже располагалась в помещении бывшего монастыря, но — женского, который был моложе мужского лет на сто — сто пятьдесят. Правда, от прошлого сохранилась здесь лишь какая-то замысловатая надпись под крышей — все было давным-давно перестроено и переделано, так что классы получились просторными, а окна большими. Но факт есть факт, и старые безбожники, убежденные атеисты Генка и Слива вынуждены были жить в мужском монастыре, а учиться в женском: против этого ничего не скажешь. Зато соседство базара, или попросту толчка, толкучки, — самого оживленного места в городе, искупало в глазах ребят унизительное прошлое их жилища. Здесь в эти первые послевоенные годы кипела своя, особая, то жуткая, то залихватская — со смехом и слезами, с песнями и причитаниями — жизнь.
Генка проснулся вовремя. Точнее — вовремя открыл глаза и соскользнул с кровати на пол: мать ушла за водой, а сестренка Катя еще спала. Веки ее дрогнули, когда Генка осторожно выбирался из-под одеяла (спали они в одной кровати), она что-то пробормотала сквозь сон, но Генка на цыпочках уже подкрался к одежде, натянул рубашку и брюки, достал из печурки скрючившиеся за ночь ботинки, решив, что умоется потом, прихватил с собой кепку и телогрейку и, чтобы не рисковать, надел их уже на лестничной площадке.
Здесь начиналась свобода. Генка подмигнул закрытой двери: мол, скоро вернусь, — и, не придерживаясь руками, лихо скатился по прямым, как струна, и почти отвесным перилам вниз, к двери в комнату Славки, или Сливы.
Скатываться по этим перилам было наслаждением: если и притормаживали они, то самую малость. Слива даже вычитал где-то, что именно с такой скоростью приземляется парашютист, поэтому, грохаясь внизу на пол, Генка всегда подгибал ноги и тут же валился на правый бок. Зимой Генка пользовался перилами реже, потому что окошко на его лестничной площадке, напоминавшее амбразуру, не имело рамы, и гораздо проще было выскакивать из него прямо в сугроб во дворе — тут уж ощущение полета было предельным. Но апрель оказался теплым, и там, где сугробы еще сохранились, они, осев, покрылись такой прочной коркой, что не всякий парашютист рискнул бы приземлиться на нее.
Шум, производимый Генкиным падением, служил условным сигналом для Славки-Сливы. Отцы у друзей были, как всегда, в разъезде, а матери ушли за водой вместе, потому что платная колонка (две копейки ведро воды) находилась за четыре квартала от бывшего монастыря. Они даже на мехзаводе работали в одном цехе.
Хлопнув дверью, Слива мигом взбежал на второй этаж, слетел вслед за Генкой по перилам, шмурыгнул носом, объяснил: «Насморк…» — и лишь после этого спросил:
— К Арсеньичу?
Генка никак не мог найти сведущего человека, чтобы, разузнать, правда ли, что у Сливы насморк, — уж очень тот хвалился им. Сам Генка, сколько помнил себя, не знал, что это за штука такая. А у Сливы, как у взрослого, был даже носовой платок с меткой в углу «С.А.», что значило Слава Андреев.
Вот и теперь он достал его, аккуратно сложенный осьмушкой, подул в эту осьмушку через нос и, как будто выполнив суровую необходимость, спрятал платок в карман.
Еще Слива хвалился своей черной челкой: вместо того чтобы зачесывать волосы набок, Слива носил их прямыми, как росли, что вообще-то напоминало бы прическу первоклассника, если бы Сливина челка не доставала аж до глаз, так что, взглядывая на кого-нибудь, Слива задирал голову, и каждому сразу становилось ясно, что в этом человеке есть что-то необыкновенное…
Это он придумал, наверное, чтобы походить на Аркашу, сына заведующего базаром.
Большой дом заведующего стоял почти в центре города, неподалеку от кинотеатра «Юность». И не было в городе человека, который не завидовал бы Аркаше. Не потому, что у него настоящий дом, а потому, что сам по себе Аркаша был удивительным парнем, каких только в книгах описывают. В черном пальто, сшитом по заказу, в черном костюме, в кожаных перчатках и фетровой шляпе, — он становился центром внимания, где бы ни появлялся: хоть на танцах в парке культуры, хоть на улице, хоть в кино. Но главное, что сам он никого не замечал при этом. Он глядел не на людей, а куда-то поверх голов, так что казалось, будто его никто на свете не интересует… В одном лишь не завидовали Аркаше: он болел туберкулезом и, три года назад окончив школу, не смог поступить в институт, часто ездил в санатории, месяцами отлеживался дома. Кожа на лице его была тонкой, почти прозрачной…
Вот на него-то и хотел походить Слива, когда задирал голову.
Прежде чем идти к Арсеньичу, решили захватить с особой Фата, жившего в деревянном доме по соседству с монастырем. Чтобы попасть к Фату, нужно было выйти из одной калитки, потом войти в другую, а можно было проще: махнуть через забор — и ты в гостях. Этот путь пользовался большей популярностью.
Но Фата дома не оказалось. Его мать объяснила, что он исчез куда-то спозаранку и, если они встретят его, то пусть пришлют завтракать.
Мать у Фата была какая-то очень уж маленькая и очень тихая. Она работала уборщицей в базарной конторе, разговаривала всегда грустным голосом и глядела при этом тоже грустно.
— Ладно, теть Роза, пришлем, — авторитетно пообещал Генка, совершенно искренне забывая, что все его обещания матерям предательски выветриваются из головы через минуту.
Слива для большей убедительности достал и понюхал свой платок.
Фат и его мать были местными жителями, татарами, и настоящее имя Фата было Фатым, но так его называли одни взрослые.
Неделю назад Фат бросил школу. Сколько ни уговаривали его учителя и мать — заявил, что сбежит из дому, но учиться не будет.
Первое время друзья втайне завидовали ему, но потом обнаружили, что Фат завел какие-то дела с Кесым, и стало обидно за друга. Кесый вообще никогда не учился, а собрал компанию вокруг себя и занимался в основном тем, что отнимал деньги у пацанов на детских, сеансах в кино, избивал тех, кто жаловался, и придирался к каждому встречному.
Отсутствие Фата слегка омрачило воскресное настроение Генки и Сливы, но ненадолго.
Толпа затолкала их, загалдела со всех сторон, и глаза приятелей разбежались от сказочного изобилия товаров вокруг.
Горячая картошка в продуктовом ряду, бутерброды с маслом — сто рублей штука, — тяжелые сыры на расстеленных женских платках, молоко, яйца…
— Выпейте с горя! Выпейте с радости! — призывает лотошница, размахивая бутылкой водки в одной руке, стаканом в другой.
Здоровенный детина, уже выпивший не то с горя, не то с радости, показывает из-за пазухи полбуханки хлеба:
— Бери, опа, пока сам не съел, развязывай чулок!
— Сапоги! Кому сапоги?! За полцены отдам!
— Эй-эй, дядька! Ты куда ж мою кофту поволок?! Милиция!
— Ученая свинка! Ученая свинка! Божья тварь, всю правду скажет, никого не обманет. Подходите, красавицы, не жалейте рублевки. Кто хочет узнать свою судьбу?! Кто хочет узнать прошлое?!