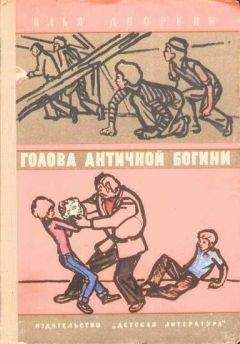Идёшь вдоль берега и шаришь под камнями рукой. Там бычки, налимы прячутся в щелях.
Нащупаешь вилкой — раз! — и в сумку. Иногда даже сомята маленькие попадались. Или раки.
Азовское море пресное, крабов в нём нет, а раки водятся. Как в озере или в реке.
Только с этими раками надо осторожно. Клешни у них — не приведи господь! Надо их за спинку хватать. Они злятся, хвостом щёлкают, клешнями шевелят, а сделать ничего не могут.
А если промахнёшься, тогда держись. Один такой зелёный, страшенный, как крокодил, изловчился — и цап Костика за указательный палец! Такая боль — хоть криком кричи. Он бы и заорал благим матом, если б Стаса рядом не было, если б перед ним не было стыдно.
Сразу пошла кровь, рак продавил мясо на пальце до кости. И держит. Только глазами своими выпученными вертит, будто они у него на ниточках. Костик ему хотел сразу же клешню отломать, но Стас не велел. Он в этом деле разбирался, его тоже однажды хватанули. Только не рак, а краб. Стас велел Костику не шевелиться, терпеть — тогда, говорит, рак отпускать начнёт помаленьку.
Легко сказать — не шевелиться, если боль такая, что глаза на лоб лезут, становятся вроде рачьих. Но Костик губу закусил и терпел. И верно — помаленьку рак стал отпускать.
Весь фокус был в том, чтобы выбрать момент, когда рак отпустит достаточно, и тогда резко рвануть палец.
Всё было бы, наверное, хорошо, если б Костик не поторопился. А может, и рукой недостаточно дёрнул. В общем, рванул он палец, да только рак успел ухватиться самыми кончиками клешней, которые, как известно, самые острые.
Ну, тут уж он не выдержал — так завопил, что чуть горло не порвал. Чувствует — трещит его палец, и всё тут — вот-вот этот зверь напрочь отгрызёт злосчастный палец.
Отломал он ему клешню — не отпускает, чертяка!
Но теперь между хваталками клешни щель хоть образовалась. Сунул туда Стас гвоздь и разломал их.
Кровища хлещет, Костик носом хлюпает, поскуливает, а Стас от растерянности бегает по берегу и что-то бормочет.
Но это только казалось, что он просто так бегает. Он подорожник искал.
Нашёл, оторвал листок, вымыл его в воде, потом укушенный посинелый палец вымыл, обернул его, а сверху леской прикрутил.
На всю жизнь у Костика шрам остался.
Вот какое дело — раков руками хватать.
Раз ловили они их, бродили по колено в воде вдоль берега и вдруг видят издали ещё — сидит какой-то человек на камне у самого краешка моря, делает что-то непонятное: черпает воду ладонью и льёт себе за пазуху.
Когда ребята подошли поближе, Костик вздрогнул и остановился. Это был Генка. Но какой-то странный. Куда только и девалась его наглость.
Он сидел на корточках, красномордый, губы распустил и скулит — жалобно так.
Потом мальчишки поняли — он пьяный совсем, потому что его здорово качало, даже на корточках.
Но когда они подошли поближе, Костик ужаснулся. И Стас тоже. Рубаха у Генки была распахнута, а грудь и живот покраснели и вспухли, как подушка.
И сквозь эту красноту виднелись странные какие-то переплетения голубого цвета, линии какие-то, слова — татуировка.
Вдоль линий и слов выступали капельки крови.
Генка зачерпывал ладонью воду, прикладывал мокрую руку к татуировке и тихо поскуливал.
Костик так оторопел, что даже забыл про их драку. Ему его очень жалко сделалось, просто по-человечески жалко. Боль, наверное, была невыносимая. Константину Николаевичу до сих пор жаль этих чудаков, которые позволяют себя татуировать.
Костик поставил корзину с раками на краешек камня рядом с Генкой, подошёл вплотную и спросил почему-то шёпотом:
— Генка, кто это тебя так, а?
Парень медленно повёл в его сторону красными воспалёнными глазами, бессмысленно промычал что-то и затряс головой.
Но вот глаза его прояснились, он узнал Костика. Минуту он раскачивался в той же позе, очевидно ему просто необходим был кто-то, на ком можно было сорвать злость за свою дурость. Он вдруг вскочил и изо всех сил трахнул своим сапожищем по корзине. Раки, плоды долгих трудов — ужин Костика и Стаса — веером полетели в воду.
А Генка зарычал, хрипло выругался и ринулся на Костика. Это было так неожиданно, что тот растерялся. Он перепуганно вскинул руки к лицу и попятился.
Он даже не сообразил, что надо удирать. Генка потянулся уже к нему своими ручищами. Но тут сбоку спокойно шагнул Стас и подставил ногу.
И Генка на всём бегу грузно грохнулся оземь — вернее, о плоские камни пляжа.
Он захрипел что-то, а Костик и Стас, забыв про корзину, бросились со всех ног вверх по откосу.
Они так улепётывали, что казалось, не бегут, а летят по воздуху.
И только когда ноги у них стали заплетаться, а сердце разбухло в груди и, казалось, вот-вот лопнет, они остановились.
И дышали, дышали со всхлипами. Тяжко, как запалённые кони.
Когда отдышались, Костик подошёл к Стасу и молча стиснул ему руки чуть повыше локтя.
Чего уж тут говорить было, Стас и так всё понял. Он смущённо пробормотал:
— Да ладно тебе… Брось… — Он помолчал, потом добавил: — Ах, раков жалко, и за корзинку от твоей мамаши влетит…
— Не влетит, Стас! Ей-богу, не влетит. А раков мы ещё наловим!
Так окончился один из многих дней лета сорок шестого года, а потом настали другие в веренице долгих дней детства.
Вернулся домой Володькин и Оськин отец, фронтовик, танкист. Его демобилизовали, наконец дошла и его очередь.
И оказался он человеком настоящим — суровым и твёрдым в словах своих и решениях.
Он быстро навёл дома порядок. Запретил жене ходить на толкучку. А Оське, после первого же раза, как услышал, что он называет Костика и Стаса «кацапами» и «пришлыми москалями», устроил такую выволочку, что Оська вопил на всю улицу.
Костику и Стасу даже жалко его стало, долговязого дурака, когда он визгливо кричал не своим голосом: «Ой, папочка, ой, миленький, да не буду же ж я никогда больше, ой, не надо, ой, прости, пожалуйста!»
А отец стегал его и что-то тихо приговаривал: учил уму-разуму.
Вправлял мозги через зад, как выразился Стас.
Костик и Стас подошли к окошку и заканючили:
— Не надо, Иван Демьянович. Мы его прощаем. Не надо больше. Он не будет. Если надо, мы его сами поколотим.
— Ну, благодари ребят, Оська, что они такие добрые, — сказал Оськин папа и отпустил сына. — Я, подлец ты этакий, Москву в сорок первом грудью оборонял, кровь там пролил, а ты людям «москали пришлые» смеешь говорить! Ишь ты, казак какой выискался! Геть отседа, чтоб духу твоего не было. Ещё услышу — напрочь ухи откручу с головой вместе…
Суровый был мужчина Иван Демьянович, серьёзный.
Оська, шмыгая носом и подтягивая штаны, быстренько юркнул в дверь и, потирая зад, кинулся бежать.
Вражда сама собой прекратилась.
Как было сказано, Володька давно уж поглядывал на Костика и Стаса с завистью. Жизнь их казалась ему многоцветной и таинственной. Да и кому не завидно, если у человека есть верный друг, а у тебя нету. А Оська стал тише воды, ниже травы, ходил за ребятами хвостом и помалкивал.
В конце улицы жил поп. Самый всамделишный, долгогривый, в рясе. Действующий поп.
Дом у него был — хоромина.
Двухэтажный, кирпичный, за высоченным каменным забором с коваными воротами.
По верху шли, будто противотанковые надолбы, вмазанные в цемент острые осколки бутылок.
А самое главное — был у попа, как все говорили, самый лучший в городе фруктовый сад. Чего там только не росло!
Людская молва, конечно, преувеличивала. Поговаривали чуть ли не о бананах и финиках! Ерунда, конечно. Но сад действительно был всем садам сад.
Они подглядывали в щёлку между створками ворот и видели ломящиеся от плодов деревья.
И самое завлекательное то, что, как утверждала та же молва, ни одному ещё мальчишке в городе не удалось пробраться в этот сад.
Сторожил его здоровенный мрачный мужик с ружьём, заряженным солью. Мужик был косматый, заросший до глаз свирепой бородой и к тому же немой. Что ещё больше придавало ему таинственности.
Сад тянулся от улицы до высокого глинистого обрыва над морем.
А вдоль самого обрыва сад защищала непролазная живая изгородь из каких-то высоких кустов, сплошь усеянных здоровенными, в палец длиной, колючками. Через эту изгородь пробраться было трудней, чем через забор.
Поп был хитрый — каменная ограда давно бы свалилась в море, а корни кустов надёжно укрепляли обрыв, не давая ему двигаться дальше, к саду. Поп был холёный и смазливый. Поговаривали, что при немцах какие-то молебны служил, и вообще был он мальчишкам несимпатичен.
Во время церковных праздников — а было их бессчётное количество — у его калитки выстраивалась целая очередь сухоньких злых старушонок и всяких тёмных необразованных молодаек.