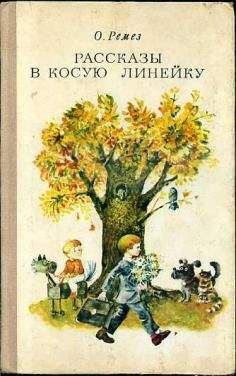Я ошеломленно смотрел на это чудо.
Открытие обрадовало меня и в то же время как-то придавило своей необычностью. Тоненький листик был таким беззащитным среди снежных нагромождений… Почти не думая, подышал я в варежку и накрыл ею листик. Потом, пятясь, выбрался из палисадника и побежал к маме.
Мама была не в духе. Она пыталась затолкать на место выпавший из нашей старой печки кирпич. Зловредный кирпич отчаянно сопротивлялся. Он ловко извернулся, упал на железный приступок и назло маме раскололся. Мама плюнула…
– Там в палисаднике травинка… – виновато сказал я, глядя на кирпичные половинки.
– Что? – откликнулась мама. – О чем ты?
Она старалась не перенести досаду с кирпича на меня, но это было трудно.
– Ты бы лучше об уроках вспомнил, – сказала мама. – Доучился до третьего класса, а таблицу умножения до сих пор не знаешь.
– Там совсем зеленая травинка, – подавленно повторил я. Было ясно, что мое открытие не имеет для мамы никакого значения.
Но она все-таки поняла. Спросила:
– Совсем зеленая?
– Да, – откликнулся я. – Как летом.
– Ну что ж… – вздохнула мама (и это был, видимо, вздох о лете). – Так бывает… Разве ты никогда не слышал, что зеленая травка зимует под снегом? Дожидается тепла.
Да, я вспомнил. Я слышал, конечно. Только верилось в это не очень.
Но ведь теперь-то я видел сам!
– Напрасно ты разрыл травинку, – сказала мама. – Она застынет на воздухе.
– А под снегом не застынет? Он же ледяной!
– Не такой уж он холодный. Он пушистый и мягкий.
Я побежал в палисадник.
Снегу я не очень доверял. Теплая варежка казалась более надежной, но за нее могло влететь.
Я убрал варежку. Узкий листик стоял смело и упруго. Я набрал с веток самого легкого и пушистого снега и белым курганчиком засыпал травинку. Потом уложил слой снега потяжелее. Потом заровнял яму…
Воспоминание о смелом листике наполняло меня радостным возбуждением. Я схватил санки и сбежал в овраг. Там летал с кручи на кручу, пока не пришли плотные темно-синие сумерки.
Вечером мне попало. Слипались глаза, и я никак не мог решить задачу про ящики с фруктами. Мама назвала меня бестолковым лодырем, растяпой и мучителем. Она решила задачу сама, велела убираться спать и пообещала выдрать, хотя никогда этого не делала.
Я забрался в постель и стал реветь от обиды. Виноватым себя я не чувствовал. Трудно было понять, почему какая-то задачка важнее радости, важнее чудесной находки. Ведь травинка была крошечным осколком настоящего лета.
А задачка была про груши и абрикосы, которых я никогда не пробовал и видел только на картинках…
Поревев, я устроился поудобнее, улыбнулся укрытому снегом листику и шепотом спросил:
«Не холодно тебе?»
«Что ты!» – откликнулся он. Вытянулся в стрелку, разгорелся зеленым светом, и снег начал оседать и таять вокруг, а жухлые стебли на земле наполнились живым соком и заколыхались.
«Значит, это ты? – спросил я, радостно дыша. – Ты – «лист перед травой»?
Он не ответил, только снег от него разбегался все дальше, а в ночи нарастал легкий стремительный топот.
И вот в темноте я не увидел, а скорее, угадал большую черную лошадь. Она ласково дышала мне в лицо. Чуть в стороне осторожно переступали еще два черных коня.
Это был не сон. Я отлично понимал, что лежу в кровати под вытертым одеялом (а сверху еще мамина телогрейка), и кругом наша комната, и наши ходики стучат в темноте. Но в то же время я взбирался на оттаявшие перила крыльца, а с них на спину лошади. Я чувствовал ногами влажную короткую шерсть на лошадиных боках, а пальцы тонули и путались в тугих прядях шелковистой гривы.
Я тронул щекой теплую шею коня и шепотом попросил:
«Ну, пошли…»
Лошадь взяла с места плавно, почти не коснувшись земли. И быстро. По бокам, не отставая, шли еще две черные лошади. Заструился навстречу ночной летний ветер. Побежали светящиеся точки – то ли звезды, то ли огоньки, то ли отблески костров на копьях далекой конницы…
Лошади стали приходить каждую ночь. Их было три. Две всегда держались в стороне, а самая главная подходила вплотную, и я обнимал ее большую добрую голову. Потом прыгал с перил на спину.
Лошади уносили меня то в синий лес, полный шорохов, огоньков и полузнакомых сказок, то к самому краю неба, где громадный месяц задевал нижним рогом большие ромашки. Иногда мы влетали в самую гущу битвы, где бесшумно и яростно рубились наши и вражеские всадники. Среди мелькания копий, мечей и щитов я самозабвенно размахивал подхваченной на лету саблей и, сразив вражеского атамана, невредимым уносился из схватки.
Но это было не главное. Вот что было главным: темное поле, высокие звезды и теплый воздух, который легко струился по траве; неспокойные горизонты, где прокатывались не то бои, не то грозы; певучий и немного тревожный голос трубы вдалеке. И надо скакать кому-то на выручку. Ничуть не страшно, только надо торопиться. И мы летели сквозь ночь, а она охватывала со всех сторон и мчалась впереди. Звезды исчезали. Казалось, мы несемся внутри громадного черного конуса, а этот конус, будто великанское копье, нацелен на одинокий огонек впереди. Под копытами дробно гремела мощеная дорога, и от булыжников сыпались искры…
Это ощущение тревожного полета я помню удивительно прочно. И так же помню нарастающую радость, когда от гремящего топота разлетались все опасности и тревоги, а огонек впереди превращался в яркую рассветную щель.
Я не знаю, тогда или после сложились такие строчки:
В край, где солнечные ветры разгоняют зимы,
Уноси меня мой верный, уноси, родимый…
Через полтора десятка лет в целинной палатке под осенним звездным небом Хакасии я рассказал о Черных Лошадях одному человеку. Я считал его товарищем. Он любил быть откровенным. Он сказал:
– Знаешь… Я понимаю. Ты, конечно, был маленьким. Но вообще-то это все равно бегство от действительности.
Я назвал его чурбаном и замолчал.
Детство не делит действительность на жизнь и сказки. В детстве все – настоящее. И сказки – тоже настоящее, если они помогают жить. Если в них веришь.
Я крепко поверил в Черных Лошадей.
Лет пятнадцати в первой тетрадке с неумелыми стихами я писал, прощаясь с детством:
…А по ночам у косого плетня
Черные Лошади ждали меня.
Добрые,
Смелые,
Быстрые,
Рослые,
Черные – чтоб не увидели взрослые.
Косого плетня на самом деле не было. Я про него сочинил для пущей поэтической красоты и рифмы. А был шаткий палисадник, примыкающий к забору из досок от товарного вагона. Одну доску я оторвал и таким образом познакомился с Майкой, которая жила в соседнем дворе. Но это было потом. А пока я ждал по вечерам лошадей.
Я так поверил в них, что и вправду стал думать, что, может быть, они приходят по ночам. Стоят у заледенелого крыльца и терпеливо ждут, медленно переступая копытами.
Когда наступала тишина и мама, укладываясь спать, выключала свет, я сползал с кровати. Совал ноги в теплые мамины валенки, натягивал ее телогрейку и пробирался к выходу.
– Ну, что тебя на холод толкает? – сердито удивлялась вслед мама. – На кухне ведро есть…
Я отвечал торопливо и неразборчиво. Выскакивал в сени, откидывал обжигающий пальцы крючок и шагал на крыльцо. Холод режущим ударом бил по коленкам – между телогрейкой и валенками. Обдувал голову. Но это лишь на миг. А потом становилось теплее.
Над крышами висела озябшая ночь. Звезды блестящими гвоздиками торчали в стылом небе. И была особая тишина: каждый звук отпечатывался на ней четко, будто новая калоша на свежем снегу. Далеко, за несколько кварталов, тявкал пес. Временами паровоз вздыхал на станции. Потом издалека выплывали и нарастали, поскрипывая, неторопливые мягкие шаги. Кто там? Наверно, сосед Виталий Павлович возвращается из депо, отработал смену… А может быть, это лошади?
Я разжимал кулак и оставлял на перилах хлебную корочку. Маленькую, с мизинец. Я берег ее с ужина, с той минуты, когда доедал последний ломтик из нашего довольно скудного дневного рациона. Оставить гостинец побольше я не мог. Хотя уже и не было войны, а жилось еще трудно и до отмены хлебных карточек оставался почти год.
Теплая корочка лежала на перилах, а я шел в комнату и забирался под одеяло. За окнами опять звучали мягкие шаги…
Утром, уходя в школу, я старательно осматривал перила и снег у крыльца. На обледенелом затоптанном снегу трудно было разобрать следы. Но хлеба не было. Значит, они приходили!
До школы меня провожал полубеспризорный пес по имени Моряк. Он умильно махал хвостом. С некоторых пор Моряк стал проявлять ко мне особо дружеские чувства. Иногда я подозрительно измерял его взглядом. Но Моряк был низкорослый и коротколапый, а перила такие высокие…