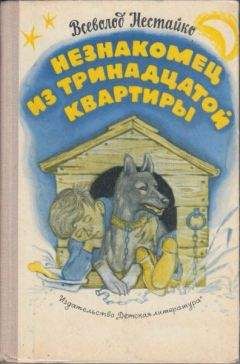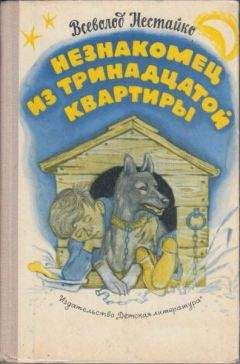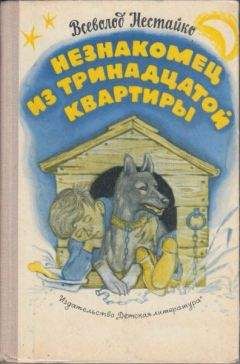— Ява! — кричу.— Быстрее смотри, я падаю.
И… что-то затрещало, зашумело, засвистело — словно бомба в кукурузу упала.
Я лежу, увязнув носом в землю. Во рту — песок, в ушах — песок, глаза запорошены.
Откашливаясь, отплёвываясь, протираю глаза и зову:
— Ява, где ты? Ты живой?
— Жи…— апчхи! — …вой.— И из кучи поломанных кукурузных стеблей высовывается Явина голова.
— Ну, что,— спрашиваю,— видел?
— Фигу,— говорит,— я видел. Одни метелки перед носом.
Ява вздохнул. Я посмотрел в небо.
«Чудеса,— подумал я.— Космонавты летают в безграничном небе, среди звезд, за сотни километров от земли — и ничего. А мы в кукурузе заблудились. Да еще в такой решающий момент! Кино!..»
— Ява! — вскочил я.— Это глупость какая-то. Этого не может быть, потому что это невозможно. Еще никто в мире не заблуживался в кукурузе. Мы просто пошли не в ту сторону. Я хорошо помню, что, когда мы шли, солнце было у нас за спиной. Идем назад.
Сначала Ява недоверчиво поглядывал на меня. Но я говорил, наверно, так убедительно, что он поднялся.
— Кто знает, может и правда. Идем.
И мы поплелись назад.
Ох, как тяжело было идти! Мы не чуяли под собой ног. Мы просто механически переставляли их, как ходули. И зачем мы ползали на коленях?
А тут я еще споткнулся и ногу подвернул, даже вскрикнул, так было больно.
Сел на землю и скривился, как среда на пятницу. Если бы Явы не было, заплакал бы.
— Что? Что? — наклонился надо мной Ява.
— Брось меня! Иди, пробивайся сам,— сказал я хрипло и уныло.
— Тьфу, дурак! — Ява обнял меня за плечи.— Сейчас пройдет.
Он помог мне подняться. Я оперся на его руку, и мы потихоньку пошли.
Через несколько минут боль унялась, и я захромал довольно бодро. А вскоре и совсем забыл о ноге.
Трудно сказать, сколько мы шли: полчаса, час или два, и сколько мы прошли: километр, два или десять. Но наконец я не выдержал:
— Ява,— говорю,— я больше не могу. Я сейчас упаду. Давай отдохнем.
Мы легли на землю.
Было тихо. Лишь кукурузные листья шуршали над нами. Где-то далеко провавакал перепел, снова наступила тишина. Даже кузнечиков не было слышно.
— А что, если мы совсем не выберемся отсюда? — тихо сказал я.— И никто не знает, куда мы пошли. И нас не найдут. И мы погибнем. И через две недели комбайн вместе с кукурузой соберет наши косточки.
— Надо было бы пообедать. Всё же дольше бы продержались.
При напоминании об обеде так захотелось есть, что я чуть не заплакал.
— У нас на обед борщ и вареники с мясом,— мрачно произнес Ява.
— А у нас суп с галушками и жаренная курица,— сказал я, едва сдерживая слёзы.
Нет, дальше терпеть я не мог.
— Ява,— говорю,— давай звать людей. Давай людей звать, Ява.
Но Ява был более стойким, чем я.
— Ты что,— говорит, чтобы смеялись? Здоровые лбы среди белого дня в колхозной кукурузе «Спасите!» кричат.
— Пускай,— говорю,— лишь было кому смеяться.
— Нет,— говорит Ява,— если так, уж лучше давай петь.
— Ладно,— говорю,— давай петь.
И мы затянули первое, что в голову пришло. А первой почему-то пришла в голову песня космонавтов:
На пыльных тропинках далёких планет,—
жалобно-жалобно выводил Ява.
еще жалобнее подтягивал я.
Долго мы пели. Почти все песни, какие знали, мы пропели. Особенно почему-то хорошо пелись те, что начинались с «Ой». «Ой в поле могила», «Ой я несчастный», «Ой не свети, месяченько», «Ой не шуми, луг», «Ой что ты, дуб», «Ой в поле жито». Эти «ой» мы рявкали так, словно нас кто в бок колол.
Хорошо пошла у нас также песня «Раскинулось море широкое». По-особенному выходил куплет «Напрасно старушка ждет сына домой». Трижды мы спели эту песню, и трижды, когда доходило до этого «напрасно», у меня начинало першить в горле. Наконец мы совсем охрипли и кончили петь.
Мы лежали, обессиленные от голода, от песен, от печальных мыслей.
— Как чувствовал, что сегодня что-то будет! — вздохнул Ява.
Я от нечего делать засунул руку в карман и неожиданно нащупал там что-то твёрдое. Вытащил и аж подскочил. Это же конфета, которую я забыл съесть вчера! Да еще и мятная. Это же пить меньше будет хотеться.
— Ява,— хриплю,— смотри!
Ява взглянул и вздохнул:
— Одна?
— Одна.
Конфетка слежалась в кармане, подтаяла, фантик прилип так, что и зубами не отдерешь. Раньше я бы её, наверно, просто выкинул. Но теперь это была такая ценность, что ого-го!
Я осторожно перекусил конфетку пополам. Но неудачно — одна половинка вышла больше другой. А еще кусать — только раскрошить.
Я вздохнул и протянул Яве большую.
— Чего это? Давай мне ту.
— Нет,— говорю,— бери. Ты больше есть хочешь.
— Почему?
— Потому что я,— говорю,— хорошо позавтракал. Яичницу ел, и колбасу, и молоко пил.
— А я! Я картошки целую тарелку, и мяса, и салат из огурцов и помидоров. Так что ты самый голодный, а не я. Бери.
— Нет. Я еще пирог с яблоками вот такой и варенья блюдце. Бери ты.
— А я два пирога, и целую крынку молока, и стакан сметаны, и еще творог, и…
— А я еще блинов, и груш, и…
Наши завтраки увеличивались и увеличивались. Если бы их сложить, то вышел бы уже, наверно, дневной рацион слона. Закончилось тем, что Ява от большой половины очень ловко откусил маленький кусочек, и таким образом «порции» сравнялись.
Мы собирались сосать конфетку как можно дольше, но через несколько минут во рту уже и вкуса не осталось, есть захотелось еще больше. И есть, и пить. Особенно пить. Вскоре мы даже забыли о голоде. Пить, только пить хотелось нам. Вот только теперь почувствовали себя по-настоящему несчастными. Мы едва шевелили пересохшими губами. Солнце начало садиться, приближался вечер. Мы с ужасом думали о своём будущем.
И неожиданно мы услыхали… песню.
Три деда, три деда полюбили бабку
А четвертый малюсенький прицепился сзади…
— выводил кто-то хрипло и гнусаво в два голоса.
Нас даже вверх подбросило, как на пружинах. Люди!
— Эй! Эй! — закричали мы и замолкли, прислушиваясь.
Нам казалось, что песня, которая как будто приближалась, начала немного отдаляться.
Трем дедам, трем дедам бабка фиги тычет
Четвертого, малюсенького, за чуб тянет…
И тогда мы, забыв обо всём на свете, бросились, ломая кукурузу, на песню и отчаянно закричали:
— Люди! Подождите! Люди добрые! Сюда!..
И кажется, я даже прокричал это позорное «Спасите!» — я точно не помню. Песня прервалась.
— Люди добрые-е-е-е! Подожди-и-те! — проверещали мы и замолкли, ожидая ответа.
И где-то совсем уже недалеко послышались голоса:
— Зо-ов-ет кто-то…
— А, пошли!
— Не! Кр-ик-чит кто-то… Чтобы я света белого не видел!
Мы так и присели.
— Мамочки, да это же Бурмило! И Кныш.
— Да пошли! — говорит Кныш.— Это кто-то балуется.
— Нет, не балуется. «Спасите!» кричит… Ау! Кто тут есть? Где вы? — заорал Бурмило.
Ява глянул на меня и приложил палец к губам: «Тс-с!» Но было уже поздно.
— Тут! — пискнул я. Оно как-то само вырвалось, ненароком.
Кукуруза над нами раздвинулась, и мы увидели красные рожи Кныша и Бурмилы.
— Эй! Так это вы? Голубчики! — расплылся в ехидно-радостной улыбке Кныш и подмигнул Бурмиле.— Что я тебе говорил? И заблудились? В кукурузе? Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Хе-хе-хе!
Он уже согнулся пополам, держась за живот, так хохотал. Бурмило смеялся не подряд, а через определенные промежутки времени. Он был пьянее Кныша. Смех у него булькал где-то глубоко внутри, а наружу вырывался небольшими порциями, как пар из чайника, что только-только закипает:
— Хи-ш… хи-ш… хи-ш!..
— Эх, вы… с-сопляки! — насмеявшись, сказал Кныш.— Ну, хватайтесь за дядькины штаны да крепко держитесь, а то снова потеряетесь.
И, обняв Бурмило, он повернулся к нам спиной.
Большего позора и унижения мы в своей жизни не испытывали.
Но выхода не было. Не ночевать же в кукурузе.
И мы, как арестанты, опустив головы, покорно потащились за «врагами народа», за теми, кого считали шпионами и предателями.
Глава 12
«Не зови меня больше — Ява, зови меня — Кукурузо!»
Я иду в сельмаг. Меня мать послала. За маслом! Это на другое утро после трагедии в кукурузе.
В сельмаге и возле него полно людей — сегодня воскресенье. Кто-то что-то покупает, кто пиво пьёт, кто просто разговаривает, семечки лузгая. Сельмаг у нас напротив клуба — тут всегда сборище, а в воскресенье и подавно.
Заметив меня, люди начинают улыбаться, перешептываться, перемигиваться. А дед Салимон говорит:
— А, здорово, парень! Что-то я тебя давно не видел.
— Да его же не было в селе,— объясняет Гриша Чучеренко.