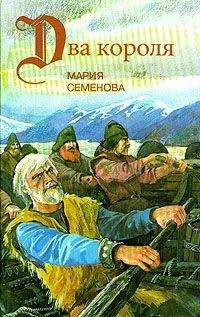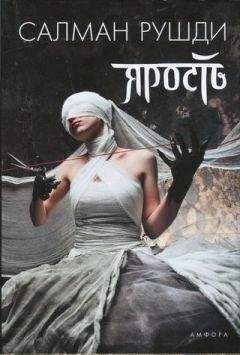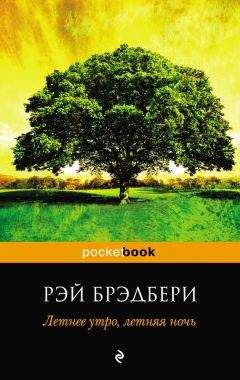Те отозвались нестройно, и он спросил:
– А что, люди, может, миром покончим?
Он чисто говорил по-словенски: речь варяжская словенской близка. А князь, на то он и князь, чтобы всякий слышал, когда говорит. И сперва было тихо, но потом кто-то крикнул с последней удалью презревшего смерть:
– Не знаем тебя!..
Дерзкого не остановили: знать, судьбы не обскачешь. Князь выждал ещё немного, потом повернул коня, бросил хмуро:
– Быть сече.
А быть сече – значит, не миновать поединка. Выйдут двое и первые попотчуют друг друга ратным вином, на мечах или так просто, оголившись по пояс и вооружась только силой собственных рук… Кто примет на себя страшную честь и положит требу Перуну, привлекая к своему вождю бранное счастье, или сам ляжет на опечаленную землю и уж не увидит ни поражения, ни победы?
Вот шелохнулись склоненные копья Вадимовых людей, выпустили неробкого малого в кожаной, прошитой железными заклепками броне. Вышел, оглянулся, сказал что-то друзьям, те засмеялись. А не избирается на поединок первый, кто вздумает; такие у любого князя в дружине наперечет, возьмешься ломать – сам смотри не сломайся! Простые гридни что камни, поединщики – твердый кремень… Князь Рюрик повернулся в седле, поискал глазами среди своих и позвал:
– Ратша!
Ратша вышел на княжеский зов с той ленивой неспешностью, которая человека понимающего неизменно пугает больше всего. И то сказать – у храброго парня разом выбелило скулы, когда увидел, на кого напоролся. Ратша, скиталец приблудный, трёх лет ещё не провел у Рюрика в дружине и ни с кем вроде особо не ссорился, но славили его – хуже не выдумаешь. Звали в глаза Ратшей Ратшиничем, а за глаза – Ратшей-оборотнем. Кто первый дал ему это прозвание и за что, с собой принёс или уже в Ладоге наградили, люди не помнили. Поговаривали, что его мать была некогда отдана для ублажения лютого волка, тревожившего скот. Пусть, рассудили старейшины, зверюшка съедучий отпразднует свадебку, утешится с красавицей женой и перестанет резать коров! Отведённая в лес и привязанная к дереву, пригожая девка как-то спаслась и потом родила сына: были у того сына зеленоватые неласковые глаза и волосы не тёмные, не светлые – цвета железа, волчьего цвета!
По-прежнему неспешно вышел он на середину поляны: широкоплечий, перехваченный по тусклой кольчуге серебряным поясом. Без шлема – на что, мол, уж будто без него не управлюсь! Остановился, и длинные пепельные усы шевельнулись в улыбке:
– Смерти ищешь?
А рука с мечом, пока что книзу опущенная, внятно добавила: ну так будет тебе смерть… Парень не дрогнул, не отступил перед ним, только сглотнул. Понимал, верно, что против Ратши не устоит, но срамиться не пожелал. И прошелестел над Вадимовыми людьми тихий, сквозь зубы, сдавленный стон. Жалели старые воины о молодом, жалел каждый, что не сам вышел вперёд.
– Ну бей, – сказал Ратша. – Если смелый такой… Тот ударил без промедления. Ратша поймал его меч, и усмешка пропала с лица, брови сошлись. Ратша-оборотень спокойно и молча делал дело, в котором ему здесь не было равных. То мастерство, при котором всё вершится вроде бы само… Раз за разом он ловил меч парня и со скрежетом отшвыривал прочь. И без большой натуги заставлял соперника униженно пятиться, понемногу поворачивая его лицом против яркого осеннего солнца. И когда тот заморгал, мучительно щурясь, меч Ратши наискось располосовал на нём плотную кожаную броню, разорвал парню горло. Молодой воин захлебнулся кровью и рухнул, не вскрикнув.
Следившие за поединком вздохнули, стали поправлять оружие, переговариваться. Мог бы Ратша не убивать храброго малого, ранил бы да оттащил в полон, вся-то недолга, а честь едва ли не большая… Но уж в этом никто ему не советчик. Сам превозмог, сам и волен: вязать или решить!
Потом княжьи подняли мечи и тяжело пошли на тех, других, заслонившихся щитами посреди круглой поляны. Словене против словен, стрелки-меряне против мерян – и любой точно так же перешибет стрелой волосинку, снимет красную шишку с самой высокой елки в лесу. Другая половина Ладоги, давно уже порешившая: кто лучшая защита городу и Земле, тому ими и володеть!
Могли бы они просто закидать сгрудившихся стрелами, а и немного понадобилось бы стрел! Так сделали бы, застав разбойника на добыче, разбойнику уважения нет. Ныне враг иной, и честь ему иная…
А немногочисленные Вадимовы люди выстроились искусно: подходи первый, кто не боится! Тут-то Ратша-оборотень отличился опять. Разбежавшись, взвился в стремительном прыжке едва не выше голов! Только стрелы знай втыкались во вскинутый щит. Разом на два копья принять его не успели, одно же, выставленное навстречу, он перерубил на лету. И пал коленями на грудь кому-то из оборонявшихся. Покатился с ним по земле… А следом, по нему, через него, уже врывались побратимы, рубили налево и направо, перенимали победу…
Ладожский князь смотрел на всё это из-под стяга, крепкой десницей смиряя рывшего землю коня. Не ему, вождю, помогать рубить обреченных. Отражалась в зрачках почервоневшая поляна и отряд смельчаков, быстро таявший в неравном бою. Князь глядел сумрачно, не радуясь победе. А чему радоваться? Вот замирить бы их да вернуть в Ладогу, его, Рюрика, руку держать…
Когда всё кончилось, князь опять подозвал к себе Ратшу. Тот подъехал весёлый, на злом боевом жеребце: рассечённый подбородок в крови, левая рука, попорченная в битве, небрежно замотана… Рюрик сам надел ему на шею плетеную серебряную гривну:
– Все бы так удалы были, как ты! Я теперь дальше пойду, а тебе дело иное: ныне взятых назад в город сведешь…
Зимними глазами глянул на него Ратша.
– За что, княже, срамишь? А не так уж я и ранен, коли ты о ране моей больше меня скорбишь!
Седой князь расправил пальцем усы.
– Не наказание тебе, но честь! Ты, ведаю, с бережением доведешь, у тебя не разбегутся. Да проследишь там, чтобы поступили с ними по уговору. Ступай!
Пленники, десятка полтора израненных бойцов, молча стояли и сидели на вытоптанной, обагренной траве. Никто из них в бою не просил о пощаде, им подарили её непрошеную, за мужество в награду. Немного попозже всем позволят умыться и перевяжут, потому что отчаянный враг заслуживает заботы. Кто этого не разумеет, тому не для чего цеплять к поясу меч, всё равно толку не будет. Однако плен есть плен, и они жались друг к другу, ещё не остывшие, не отошедшие от боя. Плечами подпирали ослабевших и без жалоб готовились принять свою судьбу.
Ратша подлетел к ним соколом. Кто-то вздрогнул: сейчас выдернет меч да примется рубить, тешась над безоружными. Ратша-оборотень таков, все его знали. Но он осадил белого коня, взметнув его на дыбы. И поднялся в стременах.
– Есть тут кто именитый? Про тех телега приготовлена. В Ладогу пойдём!
Пленники стали переглядываться, но вперёд никто не шагнул. Лишь один молодой парнишка, ясноокий корел, подтолкнул было плечом бородатого мужа, стоявшего в окровавленной словенской рубахе. Тот, безликий от ран, так и качался. Но сыскал силу твердо воспротивиться товарищу, не дал вывести себя вперёд. Ратша и не заметил.
– Ладно! – сказал он. – Нету так нету, шагайте пеши! И вот после полудня они тронулись в неблизкий путь: Ратша на коне, пленники, телега с добычей и пешцы-шестники – для пригляду. Когда скрылись из глаз, Рюрик повернулся к своему воеводе – как и Рат-ша, молодому летами, но уже с сединою в висках, с пятнами ожогов на шее и лице.
– Что скажешь, Вольгаст? – спросил князь. – Вижу ведь, опять недоволен. За что не любишь Ратшу?
Варяг Вольгаст помолчал, гладя пальцами круглую пряжку ремня. Потом сказал так:
– Жесток он, княже, невмерно. Безжалостен. Да и слушает тебя одного, Ждан Твердятич ему не указ. Вот и боюсь – беды не случилось бы…
Частые звезды ровно пылали в холодной небесной черноте: стояла, может, самая последняя ясная ночь перед осенними непогодами. Молодой корел лежал под этими звездами и временами засыпал от усталости, но ненадолго: тут же вздрагивал, вновь открывая глаза, чудилось – зовут… Приподнимался на локте, силился разглядеть впотьмах лицо лежавшего рядом. У израненного воина оба глаза прятались под повязкой и сипело в груди, но губы под усами оставались сомкнутыми: нет, не звал.
Корел привычно сворачивался клубочком на влажной лесной траве и смотрел, моргая белыми ресницами, на далекие звезды. Вот приведет их этот Ратша в свой город Ладогу, и что тогда? Не иначе – убьют, принесут в жертву грозным словенским Богам. Сказывают люди, куда как горазды эти Боги полакомиться жаркой кровью молодых, сильных телом врагов…
Корельскому охотнику меньше других досталось в бою. Надо думать, его первого и подведут к деревянному Перуну, вытесанному из почернелой колоды, и страшный Бог грозы и войны наклонится над ним, заслоняя ясное небо. И станет это последним, что увидят его живые глаза…