— Бабушка, бабушка! — радостно и изумленно воскликнула она. — Ты двадцать три коровы съела!
Старуха выронила из рук недочищен- ную картошку.
— Ко-ро-ов? Да ты... что? — тихо произнесла она после длительного молчания.— Уж ладно ли с тобой, Мария?! — и сердито и недоуменно посмотрела на Марусю, подняв на лоб очки.
Маруся поспешила ее успокоить:
— Бабушка, да ведь это за всю твою жизнь! На каждый день я клала сто пятьдесят граммов. И первые три года жизни я совсем не считала, потому что ведь ты маленькая была — не ела мяса... И когда у тебя эти самые... как их... посты... Ну, проверь, проверь сама!..
Маруся подбежала к ней с бумажкой и стала показывать свои вычисления.
Но бабушка отстранила ее рукой и даже отодвинулась от нее вместе с креслом.
— Ну хороша, ну хороша внучка! — говорила она голосом, полным обиды, покачиваясь всем телом. — Уж за все труды отблагодарила бабушку. Спасибо, дитятко, спаси-и-бо!.. Господи! Да где же это смерть-то моя ходит? — вдруг воскликнула она, всплеснув руками и подняв глаза к потолку. — Уж прибрала бы меня скорее, избавительница! Не объедала бы я никого, не обпивала... Только что грамоте ее выучили, а уж и подсчитать велят, сколько чего старуха съела!.. Двадцать три коровы!.. Это что ж такое! — ужаснулась она и опять заплакала.
Маруся уж давно смотрела на нее испуганная и растерянная. Она только сейчас поняла, какой неожиданной стороной повернулись ее вычисления для мнительной и больной старухи. Да ведь она, Маруся, думала, что бабушке тоже любопытно будет узнать, сколько чего может съесть человек, если он проживет до семидесяти пяти лет. Ведь она и про себя подсчитала, и не только мясо, а сколько хлеба, воды, молока, зелени. Ведь у них же в классе об этом речь зашла на уроке естествознания. Проходили пишевой рацион, и кто-то спросил Надежду Павловну, сколько хлеба может съесть, сколько воды может выпить человек за всю свою жизнь. Мальчишки закричали: один: «Хлеба, наверное, с Эльбрус!», другой: «А я думаю, с Гауризанканар!». «А воды, наверное, целое озеро!»
Надежда Павловна слушала, слушала их, а потом и говорит: «Да чего проще! Суточный средний паек на одного человека вам известен, в году триста шестьдесят пять дней. Кому интересно, пусть подсчитает».
Про все про это Маруся и принялась рассказывать бабушке, обняв ее и всхлипывая вместе с нею.
Конечно, бабушка ее простила тогда. Но все же совсем забыть про этих «коров» она так и не смогла. И когда на нее находила опять полоса обидчивости, бабушка нет-нет да вспоминала их, и тогда ей легче было заплакать.
Сейчас, когда Маруся исключительно из-за любви к точности заявила, что не могла же она отравить в с е х, если дома оставался один только человек, бабушка, разобидевшись, опять припомнила ей «двадцать три коровы» и заплакала.
4
Итак, все кончено! Уж не сидеть ей больше в своем сереньком лабораторном халатике, с пробиркою, тихо вращаемой над спокойным голубым пламенем спиртовки!
Лаборатория! Разве не в ней была вся радость и сила ее?! Разве было что-нибудь отраднее чем сухое сияние словно мелом начищенной лабораторной посуды: реторт, колб и пробирок?! А маленькие фарфоровые чашечки — целый набор — словно для угощения кукол! А роговые весы, тоже маленькие-маленькие и страшно чувствительные! Один раз, когда она взвешивала на них поваренную соль, вдруг с потолка опустился на одну из чашечек еле заметный паучок, и чашечка эта сразу перетянула. А ведь надо принять во внимание, что паучок висел на паутинке, значит, не всем своим весом опустился. Когда она рассказала об этом в школе, так ей не поверили, сказали, что она врет... А как быстро теплели or ладони роговые чашки весов, и как долго-долго держалась в них теплота! Она любила прикладывать их к щеке: становилось уютно, хорошо, и казалось, вот оно, счастье, и есть!
Маруся преображалась, надевая свой лабораторный халат. Ей даже казалось,, что в движениях, в голосе и в выражении лица у нее бывает тогда что-то общее с Надеждой Павловной, преподавательницей химии и физики в их седьмом классе.
Даже пробирку с жидкостью она держала в пламени спиртовки так же легко и красиво, как Надежда Павловна, и, конечно, отверстием не к себе, а в сторону и при этом все время вращая, а то ведь горячие брызги могут попасть в глаза, может лопнуть пробирка...
Когда Маруся, надев халатик, садилась за опыты, она уж, бывало, ни за что не пойдет открывать дверь, сколько бы там ни звонили. И в семье все привыкли к утому.
И вот как страшно и внезапно все это кончилось!
Что она теперь без своей лаборатории?! Такая же, как все. Раньше, если в школе кто-нибудь из мальчишек побьет ее, она думала: «Ну, и ладно, бей, а если вот посадить тебя, дать в руки бюретку, стаканчик и сказать: «Вот вам индикатор, щелочь и кислота, титруйте, пожалуйста», — будешь ты смотреть как баран на новые ворота!»
...Не спалось. Маруся лежала, вытянувшись на спине под мягким, теплым одеялом, и неподвижно смотрела в темноту. Мысли — уж в который раз! — кружились вокруг одного и того же.
Да. Всему конец. Им недостаточно было того, что она и так работала в самых тяжелых условиях: где-то в углу, за занавеской,— нет, они выбрасывают ее лабораторию на улицу. Ну, что ж! Когда- нибудь об этом тоже напишут, как написали о другой Марии, о той, что открыла радий. И каково-то им будет через двенадцать-тринадцать лет, когда начнут приходить на квартиру корреспонденты от «Известий», от «Правды», а может быть, и заграничные и станут спрашивать: «А скажите: правда, что когда Марии Чугуновой было тринадцать лет, то ее лаборатория помещалась у вас между окном и умывальником, что вы ее и оттуда выбросили?» Что им останется говорить? Не станут же они отпираться. «Да, — скажут, — так было. Но в то время ведь никто и не думал, что из нашей дочери получится великий химик. Мы считали, что она просто так, балуется...»
Американский корреспондент спросит:
— Ну, а не сохранилось ли у вас хоть что-нибудь из этой первой лаборатории Марии Чугуновой? Нам очень хочется купить для американского музея. Нам неважно, чтобы целое: нам ведь для музея...
«А что, разве этого не может быть?— подумала Маруся, как будто опровергая кого-то. — Ведь, если у той уцелела от детской лаборатории какая-нибудь сломанная колба, так уж, наверное, давно стоит во французском музее... А все таки насколько та была счастливее: отец был преподаватель физики, дома делал опыты, а она ему помогала, хотя еще совсем девчонкой была. А тут!..»
Все спали. В комнате было тихо, темно. Слышно было, как размеренно, редко падали капли в умывальнике.
Перед широко раскрытыми глазами Маруси в черной бархатной тьме плавали огненные пылинки, шарики, извилистые ниточки и круги. Они то уплывали куда- то выше лба, то снова появлялись и подолгу стояли на одном месте.
Когда Марусе Чугуновой не спалось, она любила глядеть в темноту, наблюдать за этими огненными явлениями и думать, думать без конца. Как-то особенно хорошо, особенно ярко думалось. Мысли и образы наплывали и уходили сами собой, без ее участия; похоже было на конвейер.
Даже большое горе стихало от этого неподвижного смотрения в темноту. Мало-помалу притуплялась острая боль, горе как бы отдалялось, чужело, и только где-то глубоко в сердце просачивалась тоненькая струйка боли, как все равно от пореза осокой. Потом становилось лишь грустно-грустно, и, наконец, уж, пожалуй, даже приятно было лелеять обиду.
На этот раз испытанное средство не помогло. Из головы не выходила любимая колбочка, разбитая случайно, в спешке матерью, когда она складывала в чемодан всю лабораторию. Маруся ну прямо-таки видела кусок пола, чемодан и на полу, возле чемодана, выпуклые тонкие осколки, а в них маленькие и перекошенные отражения окон.
Она закрыла глаза, но продолжала видеть все это и с закрытыми глазами. Ничего нельзя было поделать!
Так с нею случалось летом, после того как целый день она собирала ягоды. Только ляжешь вечером в постель, закроешь глаза, как сейчас же все ягоды, ягоды перед тобой! Вот, кажется, протяни руку — и сорвешь. А ведь в комнате темно, как в сундуке, и глаза закрыты. Так что же, выходит, не глазами видишь?
Маруся, бывало, подолгу задумывалась над этим...
5
В эту ночь ей приснился сон. Она видела, будто идет по двору, держа обеими руками ящичек из фанеры со всей своей лабораторией. Вдруг кто-то за ней погнался. Она убегает, но чувствует, что не убежать. Раньше в таких случаях ей стоило только взмахнуть распростертыми руками, и она сейчас же отделялась от земли и с каждым новым взмахом подымалась все выше и выше, испытывая неизъяснимую радость от этого тугого, мускульного подъема ввысь. Жалкие преследователи обескураженно толпились внизу, задирая головы. А она тем временем, преодолев эту упругую напряженность первых мгновений взлета, уже без всякого усилия, свободно парила над ними. Но иногда ей приходило вдруг желание подразнить их, и тогда она так низко проносилась над их головами, что, слегка подпрыгнув, они могли бы схватить ее за пятки.
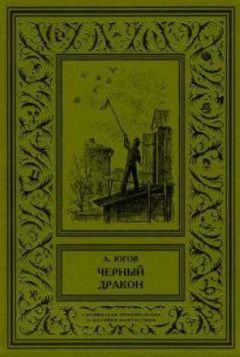
![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](https://cdn.my-library.info/books/198001/198001.jpg)


