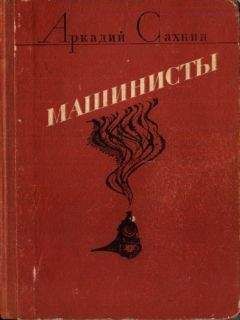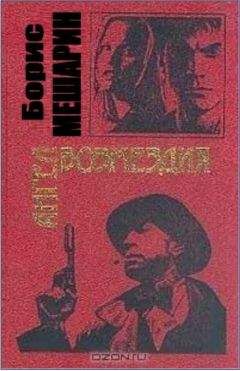— Иду это я, значит, прямо на жандарма, а он — в струнку передо мною… Так и вытянулся, так и замер… Видит, следовательно, герой идет… А то еще генерал мне навстречу… старенький такой. Ну я, значит, под козырек ему. А он, видно, сослепу не разглядел хорошенько, стал «во фрунт» да на всю платформу: «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!» Это мне, значит… Вот оно как! Верно, подумал, что я поважнее его генерал буду… Да перед всеми людьми, перед всей нашей станцией. Вот что такое — николаевский солдат! Вот что значит — медали…
Тут дед горделиво стукал себя в грудь, чтобы медали те зазвенели, чтобы видели их все и знали, какой он, дед Астап, есть герой на свете: его даже сам жандарм боится, под козырек берет, и генерал «во фрунт» становится…
Отец и мать только делали вид, будто слушают деда: им уж не привыкать к его похвальбе. А Миколка пускался в спор, не верил.
— Ох и обманщик ты, дедушка!
— Это как так — обманщик? — Дед даже на табуретку опускался от злости.
— А так! Врешь ты все… Видел я, как ты шапку перед жандармом ломал. Даже крякнул еще, так низко поклонился ему. А перед начальником депо ты вообще без шапки ходишь… Вон когда дождь был, так ведь ты перед ним без шапки и ходил. Аж с лысины у тебя текло…
Снести такую обиду дед не мог. Он торопливо хватался за ремень и, придерживая одной рукой штаны, готовые вот-вот сползти, грозно размахивал другой и двигался на Миколку.
— Я тебе покажу, как деда лгуном называть! Я тебе покажу, как срамить героя турецкой войны, старого николаевского воина! Да я, можно сказать, вот этой самой рукой сотни врагов уложил, батальоны турок перебил…
— Опять врешь! Говорил дивизии, а теперь — батальоны! — кричал Миколка и стремглав выскакивал из вагона, прячась за ближайшей будкой стрелочника.
Дед туда не побежит. Не в его-то годы прыгать через рельсы и шпалы, да и штаны того и гляди потеряешь без ремня. Поэтому дед становился обычно в дверях вагона и, потрясая кулаком, пускался в долгий спор с Миколкой. Миколка огрызался:
— Ты, дедушка, комара не убьешь, не то что турка!
— А за какие-такие доблести тогда мне медали дадены?
— Известно за какие! За лягушек…
— За каких-таких лягушек? — недоумевал дед, успевший обычно начисто забыть эту шутку.
— А за тех лягушек, которых ты гонял из-под пушек…
Громко прокричав это, Миколка считал за лучшее отступить еще на одну позицию, подальше от вагона. «Правда, едва ли дед пустится вдогонку, но — как знать, всякое может случиться», — думал Миколка и удалялся от будки стрелочника. В душе он начинал жалеть деда.
«Видать, переборщил я малость… Рассердится дед не на шутку».
Так оно и бывало. Дед в гневе не находил себе места. Это ж надо — усомниться в его былой отваге!
Наворчавшись вдосталь, дед менял тактику. Он и виду не показывал, что очень обижен. Начинал хлопотать возле самовара, колол лучину, — как ни в чем не бывало занимался мирными домашними делами. А сам между тем глаз с того дерзкого озорника, с Миколки, не сводил. И как только тот оказывался возле вагона, дед, словно ничего между ними и не было, окликал Миколку.
— Внучек!
— Чего?
— А не попить ли нам с тобой чайку? Миколка на минуту задумывается. Что ни
говори, а чай соблазняет. Дед опять:
— Внучек! Баранки у меня есть… Свежие… А пахнут как, пахнут-то…
— Ну? — удивляется Миколка. — Неужели с маком?
— С маком, внучек, с маком! Ох, что за баранки! Так попьем, говоришь, чайку-то?
— А что ты думал, дедушка! Давай себе и попьем…
И поднимается Миколка на порог вагона, предвкушая, как он расправится с маковыми баранками. Они-то уж, если на то пошло, вкуснее «заячьего хлеба», вкуснее любого лакомства.
И тут-то начинаются эти самые дедовы «баранки с маком». Да еще с каким маком!
— Иди, иди, котик мой, угощу тебя!
И дедовы руки внезапно хватают Миколку за вихры. Тут только спохватится Миколка, сообразит, что попался. Но поздно. Костлявые руки деда Астапа цепкие: попадешься — не вырвешься. А дед дергает за вихры да приговаривает:
— Это тебе за лягушек! А это за пушки! Вот — с маком! Не потешайся над стариком! Не издевайся над родным дедом! Не дразни доблестного николаевского артиллериста!
Миколка уже вопит на весь вагон, уже заступается мать:
— Брось ты, человече, над ребенком измываться!
Но это лишь добавляет масла в огонь. Дед обрушивается на обоих.
— Я вам всем покажу, как героя-воина обижать! Я вам покажу, как турок бьют… Я вам покажу, как пушки заряжают… Узнаете вы у меня, что такое картечь!
Так постигал Миколка артиллерийское дело. И, видя, что все пути к отступлению отрезаны, шел на мировую.
— Помилуй, дедушка, сдаюсь!
— Ага! Сдаешься? Давно бы так! Говори, значит, кто я такой есть?
— Герой турецкой войны…
— Ну?
— И императорских орденов…
— Ну?
— Смешно, дедушка!
— Что ты смешного тут нашел, супостат?
— Ну кавалер… орденов кавалер… Вон у стрелочниковой Зоськи есть кавалер, так он же молодой! А тут дед — и кавалер. Смех — да и только!
— «Смех — да и только!»— передразнивает дед, остывая, и пускается в невеселые рассуждения: — Мал ты еще, в толк не возьмешь никак, что за кавалер и почему. Полюбуйся вот, у меня два собственных ордена, а это значит, что я императорский кавалер… Медали такие даются за проявленную в боях исключительную храбрость… — Дед говорит, словно читает наизусть. — Мне за мою исключительную, значит, храбрость. Понял?
— А разве я говорю, что нет? — успокаивает его Миколка. — Известно, за храбрость! Храбрей тебя, дедушка, поди, на всей турецкой войне не было, — лукаво добавляет он.
А это деду слаще меда. Он даже присядет и начинает разглаживать седую бороду. Она у деда довольно неказиста: с одной стороны густая, с другой — реденькая. А он знай поглаживает, осанку важную принимает. И медали снимает, внуку показывает:
— Видишь, это вот — царь Николай… А вот тут написано: «За храбрость»!
— А почему борода у царя такая потешная, на щеке обрывается?
— Глупый, да разве ж это борода? Это баки!
— А почему баки?
— Почему да почему! Потому… Это у мужика борода, а у панов-господ, значит, бакенбарды. Все генералы и офицеры такие баки носили. Даже из нашего брата-солдата кое-кто, — те, что посноровистее. Ну, а если сноровки у кого в жизни нет, баки тому только помеха: вцепится офицер, до последнего волоска повыдергает… Вот и у меня борода когда-то пострадала, наполовину выдрали…
— За храбрость, должно? — некстати спрашивал Миколка.
— Ну вот, поди поговори с тобой…
И заводил тут дед долгий разговор про то, что такое есть храбрость. И не простая там какая-нибудь, а храбрость николаевского артиллериста, который войны прошел и турецкие крепости брал.
Слушал Миколка внимательно, чтобы извлечь из той храбрости хоть кое-какую пользу для себя. А дед Астап любит, когда его подолгу слушают. И за это, глядишь, даже угостит чем-нибудь. Вот и теперь, подробно рассказав о падении турецких крепостей под ударами николаевских артиллеристов, он стал таким добрым, что предложил Миколке:
— А не пойти ли нам на станцию баранок купить?
Миколка от такого не откажется никогда. Идут они на станцию. Дед подолгу торгуется там с буфетчицей, выбирает баранки покрупнее и помягче да чтоб побольше маку на них было.
Так и мирились дед с внуком. И уж не перечил Миколка деду, и признавал его храбрейшим из храбрых, хоть втайне и сомневался в особой отваге императорского кавалера.
А тут еще произошел один случай, из-за которого потерял Миколка всякую веру в дедову храбрость.
Как-то ночью все проснулись от громких криков.
Кричал дед:
— Спасайте скорее!
Мать бросилась к лампе, все не могла никак найти ее в темноте, чтобы зажечь побыстрей. А дед не унимался:
— Скорей! Скорей! Ой, помогите!
— Что с тобой, дедушка? — кинулся к нему Миколка, спотыкаясь о табуретки.
— Ой, пропадаю! Зверюга какая-то в бороду вцепилась, стрижет, как тупыми ножницами… Не иначе — скорпион…
Миколка сразу сообразил, в чем дело, да скорехонько к деду: хвать его за бороду. Дед орать пуще прежнего:
— Беги отсюда, внучек, беги! Зверюга и тебе пальцы отгрызет!
Но Миколка тем временем уже держал «зверюгу» в руках, только из дедовой бороды выпутать ее не мог. Тут мать зажгла наконец лампу, и все увидели в дедовой бороде обыкновенного рака. В темноте заполз тот деду в бороду и запутался в ней. Едва успокоился дед Астап, пока Миколка выпутывал речного бродягу-тихохода.
— Это ж надо! Сплю я себе и вдруг слышу — шевелится что-то в бороде. Я цап рукой, а он, зверюга, как щипнет за палец, а потом за горло. Ну, думаю, сейчас голову отгрызет!