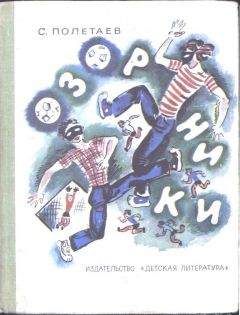Вот так, раздумывая о неприятностях, ожидающих самоубийцу, Рустем пробирался в кустах, обползая камни, пока не упал на моховую постель на пороге обрыва. Он слегка отдышался над прохладой, поднимавшейся снизу, и долго всматривался в каменную осыпь обвала. И чуть было не заснул, но что-то помешало ему. В самом деле, что? Что это мелькает там сквозь паутину в кустах? Кто это бежит внизу? Красный свитер, джинсы и коса, прыгающая по спине, — это не она ли, Броня? Стало быть, она не ушла. Рустем попятился от обрыва. Он уткнулся в мох и натянул на голову куртку, оставив для глаз маленькую щелку. Этой щелки хватало, чтобы рассмотреть и понять, что с Броней что-то случилось. Во всяком случае, она была уже не та, что некоторое время назад. Что же случилось? Куда делась ее надменность? Где ее холодное высокомерие? Растерзанная и жалкая, металась внизу неприкаянная, простоволосая девчонка и стенала со всхлипом:
— Рустем! Ты слышишь меня, Рустем! Прости, Рустем! Ну выйди, не мучь! Я… я… Рустем, я хочу сказать тебе очень, очень важное… Рустем!
Неисповедимо сердце женщины! Однако стоило жить и страдать, чтобы дождаться такого. Душа Рустема, смятая волнением, рванулась навстречу. Что-то завопило в нем от восторга и стало душить. Он так сильно вжался в мох, что почувствовал под руками холодную слякоть. И сразу остыл. А остывши, подумал: а зачем нужна ему встреча? Разве не хватит ему того, что увидел? Несбывшаяся мечта всегда горит в душе дольше и ярче. Теперь он спокойно может уйти. Теперь он знал, что делать. Он дождется темноты и ночным поездом уедет в город, а завтра с почты даст телеграмму. Да будет так! Наконец-то можно отдохнуть. И помечтать. Еще минуту назад он был бедняком, но теперь он чувствовал себя богачом. Этой сцены, мелькнувшей сейчас перед ним, хватит надолго. Он смаковал каждый миг, вновь и вновь представляя красный свитер, джинсы и косу, летевшую за спиной. Растерзанная Кабирия, метавшаяся в страшной ночи, едва ли была прекраснее Брони! Черт возьми, она даже плакала! Значит, ты не последний парень на земле, обормот ты этакий, если по тебе убивается такая девушка. Такая девушка!
Рустем пополз по-пластунски, легко подтягивая свое сухое тело сильными руками. Он поднялся уже в лесу и долго шел, слыша слева от себя смутный грохот машин на шоссейном тракте. Навстречу теснились лиственницы и кедры, но путь подсказывал узкий проем света в небе, стрелой уходивший вперед — в никуда. В сущности, не все ли равно, куда приведет его эта розовая полоска в небе? Он уже подвел итог. Кое-что он все-таки посеял в душах ребят — разве не так? Что-то от него пребудет и в травах этих, и в деревьях, и в птицах и зверях, населяющих мир. И мир этот вечен. Спокойная, радостная умиротворенность вошла в него. Грудь его ширилась от чувства слиянности со всем этим шелестящим сейчас, свистящим и сверкающим миром. Движение воздуха, шорохи деревьев, запахи трав, птичьи голоса, розоватый свет неба — все это было сейчас в нем. И он был во всем сейчас. И это был восторг бессмертия. Ибо как он, частица всего сущего, исчезнет, когда все это останется? Э, Рустем, можешь считать, что свой билет в лотерее жизни ты вытащил правильно, разве не так?
Рустем вышел из леса и направился на шум реки, внезапно возникший в стороне. Он брел какое-то время, шаря руками по осыпям скал. Впереди громоздился валун с блестящими квадратиками слюды. Рустем наткнулся на ограду и пошел вдоль нее, перебирая руками бутылки на кольях. Валун оказался обыкновенной избой. Крыльцо. Двери, ведущие в сени. Запах овчины и медвяной сыти. На полатях — груда одеял. Уже в полном бессилии Рустем плюхнулся на полати и тут же вскочил. Из кучи одеял поднялось косматое чудовище и раздался странный, вежливый, чистый, удивительно знакомый голос из его далекого детства.
— Простите, я кажется, захватил ваше место?
— Да нет, что вы…
— В таком случае, вы не можете объяснить, где я нахожусь?
— Вы? А я хотел у вас спросить о том же…
— Значит, вы забрели сюда случайно?
— В некотором роде.
— Вот и прекрасно! Тогда устраивайтесь рядом, и мы еще успеем поспать. А утром на свежую голову поговорим…
Да, да, это был Шмелев. Только он так смеялся — каким-то глубоким, клокочущим деликатным смешком. Смешком про себя.
В корпусе Рустема не было. Не было его и в пионерской комнате, где находился штаб. Не было и на кухне. Линейку пришлось провести Броне. Она была в темных очках, но по губам, серым и каким-то жеваным, можно было догадаться: что-то случилось. Отправив ребят на завтрак, она пошла к Ваганову. Постояла в прихожей, закусив губы, потом без стука вошла и уставилась в угол. И так, не глядя на Ваганова, все рассказала. Что же теперь делать? Броня жалко вздохнула и робко уставилась на Якова Антоновича. Он — начальник, он самый старший, он должен что-то придумать. Никогда еще Броня не смотрела на него с такой верой — она, привыкшая верить только в себя. Яков Антонович слушал ее, лежа в постели, как бы в полусне. Он не очень деликатно расчесывал короткими своими пальцами волосатую грудь.
— Что тебе сказать на это, девочка? Если бы ты была с ним поласковее, не было бы никакого инцидента. И тебе не пришлось бы так рано будить меня. Знаю я вас, молодых! Когда-то я тоже готов был вешаться, топиться, если подружка устраивала мне финт. Я его понимаю. Когда девушка избегает тебя, очень даже может показаться, что наступает конец света. — Яков Антонович протяжно зевнул, глаза наполнились слезами. Он долго выбирался из засасывающего волока сна. Глазки его блеснули, вскользь проехавшись по выпрямленной фигурке Брони. — Что ты, девочка, мучаешь его, скажи на милость? Все же вокруг не слепые, я тоже не слепой. Это же видно без микроскопа, что он сохнет по тебе. Разве не понятно, что ты для него первая красавица на свете?
Броне стало жарко. Она словно бы оглохла. Все, что Яков Антонович говорил дальше, слышалось как бы сквозь стену. Он, конечно, не хочет оспаривать Рустема — у каждого свой вкус, — но она, в общем, девочка ничего. И была бы, наверно, еще краше, если бы расплела косу и разбросала волосы по плечам. Но здесь он судить не берется. Об этом лучше спросить у Ларисы. Так вот, о чем он хотел ей сказать? Да, вот что. Она напускает на себя такой вид, как будто ей по меньшей мере тридцать с хвостиком. Пусть она извинит за откровенность, она ему годится в дочки, и он по-отечески хотел ей сказать: ему не нравится, как она держит себя с ребятами. Надо с ними немного помягче, особенно с детдомовцами, у которых нет родителей и воспитатель для них часто — это отец и мать вместе. Это, конечно, не очень остроумная затея — посылать детдомовцев в обычный лагерь: ко всем приезжают родители, обкармливают сладостями, а детдомовцы смотрят и завидуют — радости мало, хотя не в конфетах дело. Но что поделаешь, в детдоме ремонт, ребят рассовали по всем лагерям, надо же им тоже где-то лето провести. Так на них надо обратить особое внимание. И не стоит, девочка, гордиться, что тебя боятся. Так вот, к чему это он? А к тому, что Рустем тоже вроде детдомовца, и к нему можно было бы немножечко помягче…
Яков Антонович говорил, прерывая свою отеческую речь зевками. Смущение Брони прошло, скулы слегка порозовели, она протерла очки и уставилась на него. Любопытно, до какого предела может дойти его бестактность? На языке ее то и дело вертелись реплики вроде: «это мое дело», «я не собираюсь обсуждать с вами эти вопросы, не имеющие отношения к делу», но не срывались только потому, что она вспомнила о блокноте, чтобы записать потом кое-какие соображения. Есть вот такие носороги, которые отродясь не знают, что такое деликатность. Рубать правду-матку в глаза им кажется любезностью. Откуда знает Ваганов, что чувствует Рустем? Рустем рассказал ему что-то и попросил быть сватом?
— То, что ты ему нравишься, — продолжал между тем Ваганов, глубоким вздохом одолевая зевок, — это видят все. А вот то, что и он нравится тебе, так это тоже не скроешь…
Броня открыла рот, чтобы отдышаться. Будто бы на нее плеснули шайку ледяной воды. Голос Ваганова снова слышался как бы из-за стены. Что такое внушает он ей? Прямо хоть уши затыкай. Это, говорит, девочка, твой случай. Такие, как Рустем, не валяются. И пусть не смотрит, что он хромой. Для хорошей девушки это не имеет значения. А она хорошая девушка. Он, слава богу, в людях умеет разбираться…
Если бы подставить Броне зеркало, она бы не поверила, что это красное до самых корней соломенных волос лицо — не лицо, а кусок полыхающего кумача — принадлежит ей. Пока этот мастодонт говорил о чувствах, которые Рустем питает к ней, еще можно было терпеть — слова эти даже льстили ей. Приятно со стороны узнать, что ты кому-то сумела внушить сильное чувство. Но услышать от постороннего, что и ты влюбилась? Это уж слишком! Если это и приходило ей в голову, то чисто теоретически, в порядке умственных манипуляций, которым она любила предаваться, но всерьез думать о нем как об избраннике? Человеке, в котором было столько неприятного ей «маняшества», этакой добренькой чувствительности, готовой излиться на кого угодно? Правда, с ним иногда случайно и каким-то нелепым образом происходили вспышки гнева, чувствовалась неощутимая в спокойном состоянии граница, за которой кончалась его доброта. Доброта его, видно, не так аморфна, как может показаться на первый взгляд. Но почему мужское в нем должно проявляться так безобразно? Может, это следствие перенесенной в детстве какой-то болезни? Иногда, впрочем, ей становилось жаль его, как ребенка, а она тоже женщина, увы и ах. Может, эти безумные вспышки — рвущееся наружу отчаянное недовольство собой? Короче говоря, она еще сама не разобралась в своих чувствах к нему, они еще были для нее — сплошная неясность. Именно поэтому о Рустеме в ее дневниках не было ни одной записи, хотя дневник был добросовестной летописью жизни ее ума и души. Ни слова о диспутах, которые они вели, о той странной ночи, которую они провели в пещере, о спорах из-за ребят. Она писала в дневнике о чем угодно, но о том, что она вопила, как дуреха, а потом бегала по тайге, умоляя о прощении, — об этом в дневнике ни намека. Может быть, просто потому, что Рустем существовал для нее в каком-то еще не открытом мире, куда она еще не смела, не рисковала заглянуть? Она боялась узнать что-то, что сомнет, как карточный домик, мир, который ясно сложился в ее голове, мир, в котором люди занимают точно определенные ею места, и так же точно виделось собственное место среди них. Теперь позволить ринуться в чужой мир — не потеряешь ли в нем себя? Мир Рустема был слишком зыбок, смутен, расплывчат, и поселиться в нем можно было, только отказавшись от себя, сбросив шкуру, которая очень шла к ней, в которой она чувствовала себя уютно и хорошо, потому что сама себе ее смастерила, не с чужого плеча! Она не хотела расставаться с ней. Без этой шкуры ей будет зябко и неуютно. И вдруг ей вправду стало прохладно. Она увидела себя идущей по туманному, зыбкому берегу, а на другом берегу, через пропасть, сияя глазами и улыбаясь, стоял Рустем, опираясь на камень. Увиденное ею поразило странной, волнующей новизной. Она съежилась под скользящим, цинически добрым взглядом Ваганова.