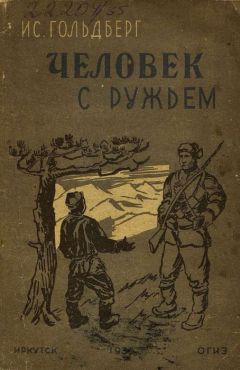Старик, которого толкнули ближе к офицерам, угрюмо молчал.
— Для чего ты приглядывался к пулеметам? Кому это ты сведения должен был давать?.. Да ты без языка, что ли? — повысил голос Семен Степанович, видимо начиная сердиться. — Немой он?
— Никак нет! — вывернулся Охроменко. — За гумнами он вот с этим фрухтом, — он показал на Тетерина, — даже шибко разговаривал... Язык у него хороший...
В это время солдат с цыганским лицом вернулся. Он нес с собою какие-то железные прутья, а два солдата следом за ним тащили широкую лавку.
Бабы заголосили. Старуха кинулась к Семену Степановичу:
— Батюшка, вашблагородье, — завопила она, — неужто старика не пожалеешь?
Но ее оттащили.
— В последний раз я вас, мерзавцы, спрашиваю, — для кого вы тут разведку делали? — сухо, с жестокими нотами в голосе спросил Семен Степанович.
Старик поднял голову. Борода его, расклокоченная, когда его вязали, тряслась, глаза слезились.
— Ни для кого, вашблагородье, — тихо сказал он. — Напраслина все это.
И, как эхо, вслед за ним Тетерин повторил:
— Напраслина! — и в его голосе прорвался животный страх.
Кешка, затаив дыхание, следил за этим жутким разговором. В горле у него пересохло, голова горела, а сердце стучало так громко, что порою Кешке казалось, что люди там, во дворе, услышат этот стук.
Придвинувшись ближе к щели, он увидел, как солдаты поставили лавку возле офицеров, как со старика Большедворского срывали решменку, потом штаны. Он увидел темное обнаженное старческое тело, видел как солдат с цыганским лицом засучил рукава и пробовал железные прутья, со слабым свистом рассекая ими воздух. И дальше видел он, как старика повалили на лавку, насели двое — один на голову, другой на ноги — и как опустился первый удар железного, сверкнувшего на солнце прута на старое беспомощное тело. И успел услышать он глухой стон и усилившиеся вопли баб, и хохот, громкий, смачный хохот, прерываемый матерной руганью. Но больше уж ничего не смог он увидеть и услышать: он скатился с вышки в задний двор, поднялся на ноги и, ничего не помня, ничего не соображая, кинулся бежать.
А вслед за ним неслись вопли, стоны и хохот, хохот...
Остановился он только на знакомой полянке, куда увлекло его бессознательное чутье. Здесь вдруг он почувствовал слабость, опустился на землю и заплакал.
Слезы рвались наружу, сотрясая все его маленькое тело. Слезы душили его и он бился о колючую землю, вскрикивая и захлебываясь. Внезапно откуда-то накатился на него незнакомый, еще никогда не испытанный страх. И этот страх обессилил его: нужно вот подняться, вскочить на ноги, бежать, — нужно, но не может он и бьется его тело, приминая шуршащую прошлогоднюю траву и робкие, молодые, чуть приметные новые побеги. Небывалым и диким встает пред глазами трясущаяся изжелта седая борода, обнаженное темное стариковское тело и сверкающий взмах шомпола. И в ушах звенят дикие бабьи вопли и глухие стоны...
В плаче Кешка забылся. И, не расслышал он, как подошли к нему, как остановились удивленные лесные знакомцы его. И только когда кто-то потряс его за плечо, вскочил он, обожженный испугом, готовый кричать дико и неумно. Но сразу притих и размяк: трое с ружьями обступили его и среди них тот, молодой, смеющийся, сверкающая улыбка которого обрадовала когда-то Кешку в безмолвии и покое весеннего утра.
— Ты чего это, Кеха?.. — участливо и встревоженно спрашивал, наклоняясь над ним, человек с ружьем. — Что случилось? О чем ты плачешь, парень?
Кешка приподнялся с земли. Он тер кулаком заплаканное грязное лицо и, всхлипывая, сбивчиво стал рассказывать, что случилось.
Трое, окружив его, опершись на ружья, молча слушали. Изредка человек с ружьем задавал Кешке какой-нибудь вопрос и, выслушав ответ, глядел куда-то поверх Кешкиной головы, словно видел вдали что-то невидимое другим. Его лицо не улыбалось и серые, всегда насмешливые и ласковые глаза, потемнели и над ними сдвинулись в тяжком раздумьи брови.
— Сволочи!! — сквозь стиснутые зубы кинул он, когда Кешка рассказал все, что обожгло его страхом и болью.
— Что же нам с ним делать? — обернулся он к своим товарищам. — В деревню ему возвращаться не след.
— Я не пойду туда! — встрепенулся Кешка. — Я, дяденька, с вами останусь...
Человек с ружьем хмуро усмехнулся:
— Рано тебе с нами... Куда ты, парень, в огонь полезешь...
— Надо его в тыл отвести, — сказал один из спутников человека с ружьем. — Пущай там с кашеваром болтается.
Но Кешка вдруг словно ожил. Еще блестели невысохшие слезы на его лице, но глаза его загорелись и словно новая сила вливалась в него.
— Я с вами, дяденька... Дайте мне ружжо! Я бить их пойду, дяденька!.. Возьмите меня с собой...
Но один из пришедших вскинул винтовку за плечо и легонько толкнул Кешку в спину:
— Пойдем-ка, паря. Там тебе лучше будет.
И человек с ружьем, в котором Кешка уж давно угадывал начальника, которого другие слушаются и которому все подчинены, тоже вскинул винтовку за плечо, подтянул ремень патронташа и пошел вперед, к лесной опушке. Следом за ним пошли остальные.
И когда они вступили в лес, туда, откуда раньше выходил на встречу Кешке человек с ружьем, то увидел Кешка, что безмолвие леса обманчиво, что всюду за деревьями притаились вооруженные люди, которые молча пропускали мимо себя Кешку и его спутников и которым человек с ружьем что-то тихо и коротко говорил.
Кешка хотел сосчитать этих вооруженных людей, но не мог. Он видел только, что все они безмолвны и сосредоточены, что ждут они чего-то и что два-три слова, сказанные им на ходу человеком с ружьем, делают их еще суровей, еще сосредоточенней.
За дальним ельником, куда Кешка редко забегал в своих бездумных детских скитаньях, раздвинулась новая полянка. На притоптанной земле были разбросаны ружья, ящики, а в стороне дымился костер с навешенным над ним большим черным котлом. Возле котла суетился старик.
Приведшие Кешку крикнули старику:
— Дядя Федот! Примай партизана!
Старик поманил Кешку к себе.
На поляну стали сходиться люди. Они подходили к человеку с ружьем и что-то рассказывали ему. А он, выслушав каждого, кивал головой и был чем-то доволен.
И здесь только услышал Кешка, как зовут этого человека с ружьем, у которого насмешливые и вместе с тем веселые глаза, у которого все лицо яснеет от сверкающей светлой улыбки:
— Товарищ Герасим!
Дядя Федот усадил Кешку у костра, налил ему в плошку похлебки и дал ломоть хлеба, круто посоленного крупной, хрустящей солью.
— Ешь, парнишка, ешь.
Кешка вдруг почувствовал, что он очень голоден, и с жадностью накинулся на еду. Старик глядел на него, дымя трубкой и качал головой.
С едой Кешка забыл про все недавно пережитое. Он чувствовал приятную теплоту во всем теле и только какая-то сладкая усталость охватывала его голову и клонила ко сну.
И словно сквозь сон видел он как подошел к костру товарищ Герасим, как сказал он что-то старику. Дядя Федот встрепенулся, шагнул к человеку с ружьем. И успел увидеть Кешка, что дядя Федот прильнул к товарищу Герасиму, что-то сказал ему и торопливо погладил по плечу.
А потом мягкая нежная пелена тихо накрыла Кешку и отодвинула от него куда-то за тридевять земель и лес, и костер, и вооруженных людей...
Проснулся он от какого-то непривычного шума. Кругом надвинулись сумерки. Костер догорал. Дядя Федот стоял вдали черною тенью, неподвижный, застывший.
Кешка услышал какие-то гулкие дробные удары, какой-то мерный треск, какой-то гул. Все это шло со стороны Максимовского.
— Дяденька, что это!? — вскочил Кешка и подбежал к старику.
— А, проснулся! — Старик на мгновенье оглянулся на Кешку, а затем снова обернулся туда, откуда разростались, крепли и зловеще усиливались звуки. — А это, паренек, стреляют! Наши пошли белых выбивать из деревни. Слышишь — залпами бухают — это наши. А вот тарахтит — это пулемет. Им белые орудуют... Три у них было пулемета-то, да два-то мужики попортили... Слышишь, слышишь, как жарят!..
Кешка слушал и его охватывал страх. Он слышал, как усиливалась пальба, как сливались в сплошной грохот ружейные залпы и безостановочный треск пулемета.
Внезапно над лесом сверкнула светлая полоса, словно зарница. Раздался сильный гул. Дядя Федот крякнул и довольно засмеялся.
— Ага! Это наши у белых патроны подожгли! Молодчага товарищ Герасим! Ловко он все это удумал!
На место погасшей зарницы над остриями лиственей и елей заколыхалось зарево, которое стало быстро расти.
— Дяденька! — в испуге крикнул Кешка, — это Максимовское наше горит!.. Гляди-ка, занялось!..
Старик покрутил головой. Зарево охватило полнеба. Багровые полосы зловеще вплелись в белый отблеск пожарища.