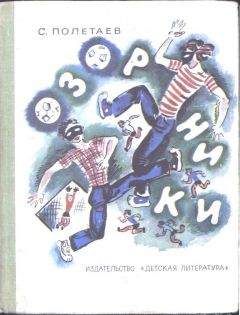Рубик, вечно занятый своими козявками, все, оказывается, замечал и во всем разбирался. Нет, если кто гениальный, то это Рубик! Интересно, а что он скажет об Иване?
– Обыкновенная дурандасина, – сказал Рубик и махнул рукой, словно не о чем было говорить.
Данька почему-то огорчился за Ваню. Но, видимо, Рубик был прав – не всем же быть выдающимися людьми. Данька с сожалением посмотрел на Ваню, который по-прежнему усердно трудился, осторожно обводя кистью место, где находилось ласточкино гнездо. За несколько дней птенцы уже успели заметно подрасти, и ласточка смотрела на Ивана, не проявляя никакого беспокойства. Ваня был добрый, и она, наверно, чувствовала, что он не сделает ей зла.
– Значит, дурандасина? – спросил Данька, надеясь, что Рубик передумает и скажет о нем что-нибудь другое.
Но Рубик пожал плечами, не понимая, о чем тут толковать.
– Разве такой человек сделает открытие? – сказал он. – Для этого надо иметь кое-что вот здесь, – и он стукнул себя по голове.
В это время внизу послышались кряхтенье и вздохи. Из открытого иллюминатора выползло сердитое облачко табачного дыма, а вслед за облачком показался сам капитан с трубкой в зубах. Он внимательно посмотрел на Рубика, потом на Дань-ку, будто не узнавал их, будто они были какие-то случайные люди, неизвестно как затесавшиеся в команду. Вот как посмотрел на мальчиков капитан. Данька почувствовал холодок в груди от странного капитанского взгляда. Но может, взгляд показался таким от дыма, который застилал его лицо? В самом деле: когда дым рассеялся, капитан вполне добродушно сказал:
– Может, зайдете всей командой ко мне в гости?
Ребята спустились в каюту. Капитан перекладывал на столике бумаги, щурил глаза и попыхивал трубкой. Дым, разворачиваясь кольцами, поднимался к потолку, качался там некоторое время, потом опускался, закручивался воронкой и уходил в иллюминатор…
Так было всегда, когда капитан раскладывал на столе мелко исписанные листки из книги воспоминаний, которую писал во время плавания. Ребята знали, что капитан волнуется. Он усиленно дымил своей трубкой, пока они тихо рассаживались…
Глава 4
СЛУЧАЙ В ПУСТЫНЕ
(Из воспоминаний капитана)
Чем дальше автоколонна углублялась в пустыню, тем тревожнее приходили вести: то где-то угнали отару овец, а чабанов на медленную смерть побросали в старый» колодец, то разграбили кишлак и расстреляли активистов, а где-то отравили арык, и начался падеж скота…
На третий день участников пробега встретили женщины и, плача, рассказали, как басмачи украли пятилетнего малыша, сына башлыка – председателя кишлацкого Совета. Мать, молодая еще женщина, с глазами, выжженными горем, путаясь в юбках, долго бежала за уходящей колонной и кричала:
– Керимка мой! О, Керимка!
Воздух становился терпким от страха. Давно миновала гражданская война, по Туркмении совершали свои первые пробеги советские машины, а между тем в пустыню еще не пришел мир. Как волки рыскали в пустыне басмачи, вселяя в жителей ужас и смятение. Вопли женщины, потерявшей сына, звучали в ушах Ивана как тяжкий укор. Теперь, крутя баранку, он цепко глядел по сторонам: в каждой кочке виделся ему притаившийся басмач, а в завитках песка мерещились всплески летящих копыт.
– Ну, попадетесь вы мне, гады! – говорил он, нащупывая рукою гаечный ключ.
После полудня автомашина сбавила ход. Иван остановил ее.
– Помочь, Ваня? – спрашивали шоферы, высовываясь из кабин.
– Езжайте, догоню! Тут делов-то пустяк.
Повреждения, однако, Иван не нашел. Колонны машин уже не было видно. Из-за барханов, вырастая, как привидения, приближались конники. Они двигались медленно, то истончаясь в воздухе, то сгущаясь, колеблемые жарким ветром, пока совсем близко не послышались голоса.
Чернобородые, с тюрбанами на головах, всадники окружили Ивана.
– Салям алейкум!
– Аллах помогай!
– Что стоял?
– Догоняй свой конь!
– Ай, беда! Ай, беда!
Всадники раскачали машину, вытащили ее из песка и прокатили несколько метров.
– Конь не слушай – плохой конь.
– Резать мясо такой конь!
– А где купил такой ишак?
– Ох, беда! Ай, беда!
Что за люди? Откуда свалились? Свои или чужие? И почуяло сердце – чужие. Заметалась душа в тоске, набок сбило все мысли. Стал Иван прощаться с молодой своей жизнью, поминать матушку и отца… Как вдруг с удивлением услышал в себе тихий, чуть хрипловатый голосок: «Не горюй, браток, время еще твое не пришло. Главное – виду не подавай, что сдрейфил. Авось да небось еще и дашь стрекача. А пока смотри да оглядывайся!»
И сразу же Ивана страх отпустил. Пригляделся он к басмачам: люди как люди, в полосатых платьях похожи на женщин, машине рады, как дети игрушке. Даже смех его разобрал. А на него глядя, и басмачи смеются.
Тут подъехал к машине чернобородый старик на белом коне и ударил в кабину камчой.
– Пора балбала кончать, – сказал он сдавленным горлом и скользнул по Ивану неподвижными глазами. – Заводи конь – и поехали!
– Отъехались! – сказал Иван добродушно. – Не пойдет конь, пока не напьется!
Басмачи загалдели. Главный бородач понимающе усмехнулся и спросил:
– Кумыс твой конь пить будет?
– Моему коню керосин нужен, а не кислый кумыс…
– А где карасин, шайтан тебя забирай! –
Басмач оскалил желтые зубы и замахнулся нагайкой.
Отшатнулся Иван, оторопел слегка, да опять тот голос услышал в себе: «А ну шугани его покрепче!»
– Худо будет! – спокойно сказал Иван, посмотрев на свой тяжелый кулак. – Так бы я и ждал тебя, балда твоя борода, если б керосин весь не вышел. А плетку спрячь!
Удивился старый басмач и отступил от Ивана – убивать его было тому не с руки.
– Аллах да будет с тобой! Нет карасий – поедешь верблюд, – сказал он, пряча нагайку за пояс. – Худайберды скажет: ай, хороший, скажет, бакшиш! Карасин достанем, атаман будешь возить…
Из-за бархана привели верблюда, желтого, как сама пустыня, и несколько басмачей приарканили к нему автомашину и погнали вперед. Иван сидел в кабине, подкручивал руль и уныло глядел, как верблюд тяжело вытаскивает ноги из сыпучего песка. Иван думал о неволе, которая ждет его у банд-атамана Худайберды, самого свирепого волка пустыни…
Вскоре в пустыню пришла ночь. Из-за барханов выползли Железный Кол и Большая Медведица и встали на свои дозорные места, освещая путь каравану. Свет дня убегал и таял в темноте, а там, впереди, загорались живые огни.
Караван въезжал в развалины старого кишлака. На кострах шипели чайники и казаны, пахло жиром и мясом, блеяли овцы и бараны. Как почетного аксакала, Ивана под локотки вывели из машины, посадили у костра, дали обмыть руки и поднесли пиалу.
– Кушай, Иван, бешбармак, сил много-много надо. Утром Керимке башку долой – дальше пойдем!
«Беда, ой, беда-то какая!» – подумал Иван про малыша, и мать его с глазами, черными от горя, словно бы встала перед ним на колени и молила: «О, Иван, спаси сыночка!»
Сильно оголодал и высох от жажды Иван, но кусок в горло не шел, все о мальчонке думал. Что делать? Как быть? Опять было впал в тоску. Да не время было тосковать. Чуял: надо выход искать.
Иван встал, приложил руки к груди и поклонился сидевшим вокруг басмачам.
– Рахмат вам, спасибо, значит, за пищу, а теперь дозвольте мне пойти до коня своего и поспать…
Басмачи посовещались по-своему, поплевали жвачкой в костер и согласились. От костра отделился рослый басмач и пошел за Иваном.
– Ты Иван, я Дурахман! Ты ходи туда, я ходи туда. Ты делай ночь, я шакал прогоняй!
«Стало быть, караульщик», – догадался Иван и пошел по развалинам, вглядываясь в чужие лица и вслушиваясь в чужую речь. Кони мотали головами, блеяли овцы, суетились женщины, поднося мужчинам еду. Сзади осторожно следовал Дурахман.
Но Иван не торопился. Он останавливался, похлопывал себя по животу, зевал, а сам остро вглядывался, словно кого-то искал. И вдруг сцепился взглядом с тощим стариком, сидевшим на краю кибитки, как ворон. Иван подался к нему, но старик злобно заверещал, заглушая детский сонный голосок. Иван отшатнулся и попал в объятия Дурахма-на, вырвался и заторопился прочь, споткнулся обо что-то мягкое и услышал теплое дыхание верблюда.
– Спи, Иван! – Дурахман подтолкнул его к машине. – Аллах ночь дал спать, а утром ехать будем. Спи!
На развалинах догорали костры, искры улетали в черное небо, превращаясь в звезды, в мерцающем их стаде ярко и недвижно горел Железный Кол, держа на привязи Большую Медведицу. И понял тогда Иван, что жизнь его попала в петлю, впереди не светит ничего, кроме плена.
Время текло, уходя в песок вместе с пустыми мыслями, от которых ничего не могло измениться. Неотвратимая надвигалась судьба: звезды погаснут, поднимется на горизонте солнце, настанет утро – и совершится казнь. Вздернут голову мальчишки на копье, и караван двинется дальше в пустыню.