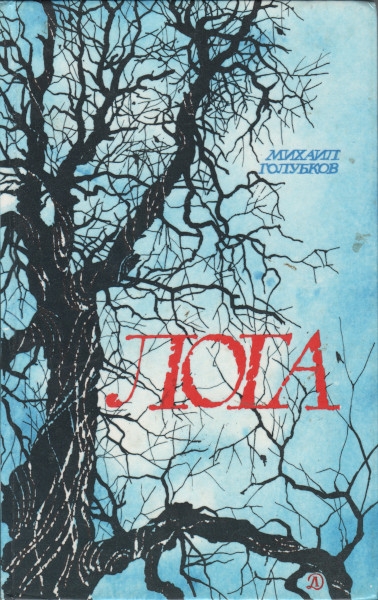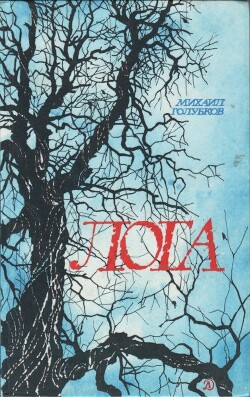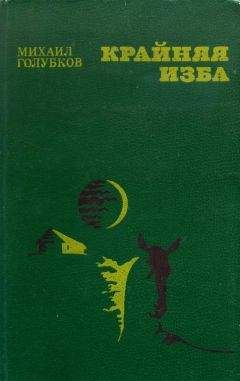вот как это бывает. Все в лесу хотят жить, все приноравливаются, все пищу добывают. А волкам и сам бог велел.
Да что волки, люди не лучше. Взять, положим, того, кто стрелял в лося. А чем, скажем, лучше отец Ларьки, которого ни разу и в лицо-то не видел?.. Ну не подонок ли, не волк? Бросил их одних с матерью и за ухом не чешет. А еще все долдонят о чем-то, призывают, воспитывают...
Внезапно Ларьку точно ножом резанули. Стонущий, укающий, студящий вой полетел над снегами, заполнил, кажется, заставил обмереть все живое на земле. Испуг был до того сильным и неожиданным, что запросто и в штаны напустить. Ноги, похоже, окаменели, приросли, никакой силой не стронешь.
Вой вырвался из ложка, из темного, крохотного и совсем безопасного на первый взгляд колка, круглившегося под косогором. И тотчас там возникли, отделились от ельника семь серых низких фигур, семь неслышных, крадчивых теней, четко различимых на пока еще белом, не успевшем засинеть снегу. Тени неторопко и ровно друг за дружкой, поднимались в угорину за ложком, тоже вырубленную, широко и пустынно распахнутую. Волки, видимо, зачуяли человека и решили убраться подобру-поздорову.
Поняв это, Ларька наконец-то ожил, сорвал с плеча ружье, бабахнул с наслаждением вверх, оглушив себя громом и радостью, что все так удачно кончается. Вороны и сороки разом осыпались с кустов и деревьев, скрипучие, удаляющиеся крики долго пилили, раздирали вечернюю всколыхнувшуюся лесную тишь.
— Ага-а-а! Испуга‑а‑ались! — заорал Ларька вибрирующим, напоминающим недавний волчий вой голосом, в нем еще все дрожало от перенесенного страха, ноги по-прежнему были ватными. — Это вам не лося‑я‑я‑а драть!
Волки — и после выстрела, и после крика — не ускорили и не умерили шаг, шли как шли, не оглянулись даже, словно глухие, словно их ничто на свете не касалось, и в этом их спокойствии, кажущейся отрешенности Ларька опять почувствовал нешуточную угрозу.
— Смываться, однако, пора. Как бы не вышли наперерез... не напали дорогой.
Ларька осмотрелся в поисках куньего следа. Вон она куда зашкандыбала. Она небось еще столько же умотала, нажравшись-то. Куницей он завтра займется, сегодня уже поздно. Завтра он и откачку пораньше сделает, чтобы весь день у него был свободен.
Заодно надо и топор прихватить, вырубить кусок лосятины, варить похлебку — не все же волкам оставлять. Волки этой ночью едва ли наведаются сюда, раз здесь человек побывал. Умные, сволочи, осторожные — не скоро обманешь. Они вообще могут начхать, бросить эту добычу, если им подвернется другая, если их голод не проймет.
Увезти как-то бы и рога на вешалку. Уж рога-то волки не тронут, не по зубам они серым. Впрочем, с рогами можно и не торопиться, лежи они себе сколько угодно. Можно и после армии забрать, через два года. Еще даже лучше выйдет. Череп очистят, объедят мыши и муравьи, одна голая, белая кость получится. Рога не будут вонять, разить мертвечиной. Надо только хорошенько место запомнить, чтобы найти потом, не потерять. Надо рога повыше поднять куда-то, чтобы они на земле не валялись. Ларька часто находил в лесу одиночные, сброшенные лосями лопатины. Так они были мягкие, сгнившие. Все предает тлену земля.
Шикарная получится вешалка, блеск! Пятнадцать крючков-отростков насчитал Ларька. Он никогда таких рогов не видел. Два экскаваторных ковша, а не рога. Всю стенку дома займут. Метра полтора длиной. И с чего такая дурнина нарастает?
Услыхав выстрел (на волчий вой, крики воронья и сорочья он и внимания не обращал), хоть слабо, но все-таки долетевший сквозь толщу снега и хвороста, Одноухий вздрогнул, приподнял голову, напружинился весь, готовый выскакивать из-под кучи. Он ждал знакомых, страшных шагов, ждал долго, терпеливо, пока наверху не стемнело. И Одноухий понемножку расслабился, лизнул успокоенно раненую лапу, она была горячая, но болела меньше, чем утром, или кунь привык и не замечал боли. Сунув опять мордочку в мех живота, он снова задремал, оставив только недремлющим, ничем не прикрытым свое единственное, всегда настороженно торчавшее ухо. Куню надо было отлеживаться, заживлять рану. Желудок его был еще полон, охотиться он не собирался.
Ночь прошла мигом, в сонной провальной забывчивости, в сладком посапывании и поуркивании. Даже мышиные шорохи и попискивания рядом, почти что у самого носа, не тревожили в этот раз Одноухого. Наоборот, он еще крепче засыпал, точно убаюкиваемый близостью и доступностью мышей.
Поутру к развороченной туше вновь полетели отовсюду вороны и сороки, оглашая округу беспрерывным стрекотом и карканьем. Они устраивали шумные, драчливые свары возле лося, отбирали друг у дружки лакомые куски. Иногда казалось, что птиц кто-то спугивает, таким был заполошным порой их крик.
Они мешали Одноухому прослушивать лес, притупляли его внимание, бдительность, опять ведь начинался день, надо быть начеку.
И все же из-за вороньего и сорочьего гвалта он прозевал приближение человека. Как-то уж очень бесшумно и неожиданно подошел тот сегодня, будто прилетел, с неба опустился. Одноухий не знал, что человек просто-напросто съехал с косогора на лыжах. Он бы и дальше проехал, если бы не потерял след куницы.
Одноухий заметался под кучей, ища, где бы ему выскочить. Но было уже поздно, человек стоял рядом, над ним — насмелься-ка, выскочи. Громыхнет, стеганет опять... Или капкан снова в лапу вопьется.
И Одноухий решил отсидеться, переждать. Он, правда, по-прежнему сновал взад-вперед, однако не так уж напуганно и бестолково. Он теперь в любой момент находился от человека в другом конце кучи, был как бы за ней, отгораживался ею.
Человек ходил вокруг хвороста, нахлестывал по сугробу лыжными палками, орал во все горло, стараясь выжить куницу.
— Где ж ты, заразина? Куда затырилась?
Потом он снял лыжи, начал разгребать одной снег. Докопался до хвороста, бросил:
— Тут и совковой лопатой не управишься... И сучья не растащишь.
Он долго и неподвижно стоял, раздумывая, затем еще поработал лыжиной, разворошил кучу в откопанном месте, чтобы рука поглубже заходила, сунул в верхний слой хвороста зажженную газету.
Зашаяло, затрещало, запахло палом.
— Теперь ты у меня вылетишь, милаша! Или изжаришься к чертовой матери!
Сучья, однако, не разгорались, чадили лишь, шипели от таявшего снега.
Тогда человек взялся за лыжину основательно, разгреб и поджег кучу сразу с трех сторон. Запихал к тому же в хворост и комок ваты, надергав ее из