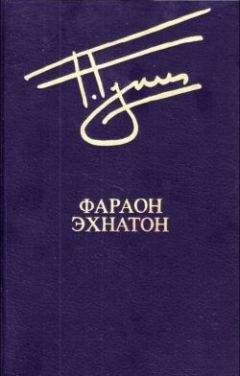— Стало быть, не выдержал, — сказал Василий Прохорович.
— Чего?
— Пробы. Ты когда на завод поступал, пробу держал? Ну вот, ту сдал, получил разряд. А эту не сдал. Та проба — не главная. Обучить можно любого, коли у него руки — не крюки, а голова — не куль соломы. И что ж, думаешь, разряд получил — он уже рабочий, можно бить себя в грудь: «Я — рабочий класс»? А он никакой не класс, а шиш на ровном месте. Классом-то ещё стать надо. Не в рассуждении квалификации. А в рассуждении понимания, что будь у тебя семь пядей во лбу, всё одно сам-один ты ничего не значишь. Класс — это не один, а все, и действовать должны в одну точку, а не кто во что горазд…
— Как говорят: «Гуртом и батьку бить легче»?
— Ну, это погудка куркульская… Нам делить нечего, и батьку колошматить незачем. А вот коли ты делать что хочешь — оглянись, каково это другим будет, может, ты и не самый умный. А может, умник, и тебя все поддержат…
— Каждый раз собрания дожидаться? Вы небось не ждали, когда Иванычева от станка турнули, как он начал подгонять вас?
— Сравнял. То — ты, а то — я. Разница! А Иванычев? Что ж, Иванычев… Он из тех дураков, которым закажи богу молиться, они и лбы расшибут. Беда только, что разбивают не свои — чужие… Думают, передовики вроде капустной рассады — где ни посади, так там враз и кочан… А я тебе не говорю, что без собрания не смей пикнуть… Пикать-то вот не надо! Ты уж ежели рот открыл, говори так, чтобы все услышали. А не только твой Витька.
— Так я и говорил, дело совсем не в Витьке…
— И в Витьке тоже. Парня с толку сбивают. За ним и другие могут сбиться. Вы ведь как овцы, думалка у вас короткая… Тебя, если б лучше думал, с завода бы не выгнали.
— Думаете, я испугался!
— Кабы испугался, что о тебе и думать! Какая б тебе тогда была цена?.. Ну ладно, ты, кажись, и так себя больно высоко ценишь. А сам тычешься, как кутенок, вслепую… Иди-ка лучше спать!
Звезды заглядывали в дверной проём беседки. Из недалекого порта доносились окрики буксиров, гудение крановых моторов, лязг грейферов.
В отдалении на подходе к порту протяжно затрубил пароход, вызывая лоцмана. Боится идти сам, чтобы не быть, как кутенок…
Хороший старик дядя Вася! Говорил только очень путано. Может, ему и самому не очень ясно, что он хотел сказать? А в чём-то прав…
Пробой на разряд началась работа. Перед тобой положили наряд, указали поковку. Делай. Чем скорее и лучше сделаешь, тем выше будет оценка. Ты очень волновался, проба — это крайне важно. Самое важное! Ты сделал хорошо и быстро. Сдал пробу. И тебе дали третий разряд. Ты думал, что это конец, стал полноправным разметчиком, «рабочим классом»… Оказалось, это — только начало. Каждая новая работа тоже была пробой, хотя уже не называлась так. И оказалось, что ты сдавал пробы и раньше. Много раз. И сдаешь теперь. Чуть ли не каждый день или несколько раз на день. Это — что ты сказал и сделал, как ты подумал и сказал, и сделал ли ты так, как подумал, или иначе и, значит, соврал. И такие пробы сдавали все люди вокруг и на каждом шагу — видные или невидные для тебя, понятные или непонятные тебе пробы, но они были, и поэтому перед тобой возникали новые — от того, как другие люди выдерживали пробы, ты должен был менять свое отношение к ним или сохранять его. И это тоже было пробой для тебя и для других…
И так у всех и всегда? Выходит, жизнь — это пробы, непрерывный экзамен? С детства и до самой смерти учить уроки и отвечать заданное? Нет, заучивать заданное, отвечать заученное — в этом нет пробы. Это умеет попугай. Еще лучше — магнитофон. Жить — значит делать. То, во что веришь. И не отступать.
Еле слышно зашуршал песок дорожки, на пороге беседки появилась мальчишеская фигура. Мальчик постоял, присматриваясь, потом заметил, что Алексей пошевелился, шагнул вперед. Он потихоньку лег, потом повернулся на живот, подпер кулаками подбородок.
— А ты Горбачев, я знаю, — сказал он сиплым от неумеренного купанья голосом.
— Горбачев. А ты?
— Санька. Я тебя в пятиэтажку бегал искать.
— Зачем?
— Дед посылал. К нему Маркин приходил. Знаешь, старик такой? Про тебя рассказывал. Ну, дед и послал, чтобы кровь из носа — найти.
— Меня не было.
— Ага… Я хлопцам передал.
Санька замолчал. Алексей пытался рассмотреть его получше, но в ночном полумраке смутно виднелись только белки глаз, выгоревший чубчик полубокса и широкие ноздри очень курносого носа.
— А я про тебя все знаю, — сказал Санька, помолчав. — Дед с Маркиным говорил, так я всё слышал.
— Ну и что?
— Ничего… Хочешь яблок? Обожди, я счас.
Санька соскочил с топчана, убежал. Где-то неподалеку залаяла собака, потом затихла. Санька пришел минут через двадцать, запыхавшийся, с оттопыренной пазухой. Яблоки глухо застучали по столешнице, покатились по земле.
— На, — сказал Санька. — Мировая антоновка. Я самые крупные рвал.
— Яблоки мировые, — подтвердил Алексей. — А что так долго?
— Так я к соседу лазил. У нас тут напротив штунда живет. Голомозый. Я — к нему.
— Чужие слаще?
— Не, у нас такие самые. Я — принципиально. Думает, если у него собака, так его будут бояться… А меня все собаки любят. Я с любой договорюсь. Факт! — Санька с хрустом надкусил яблоко и замер. — Ты чего?
Алексей хохотал.
— Чего ты, псих, что ли?
— Это я так… — всё ещё смеясь, сказал Алексей. — А если дед узнает?
— Ну, известно чего — ухи нарвёт, — обиженно сказал Санька.
— Да ты не бойся, я не расскажу…
…Может, и он, как Санька, залез «не в свой сад», в чужое дело, и его принципиальность не лучше Санькиной? И он «перевоспитывает» Витьку, как Санька Голомозого? Чушь! «Чужое дело» — это у посторонних. А он не посторонний. Всему.
— Ты рыбу ловить любишь? Пошли завтра бычков наловим? А? Бабка утром нажарит. Дед их здорово любит… Только до света надо. Ты сам просыпаться умеешь?
— Кажется, умею.
— А я нет… Ну, гляди не проспи!
Дома во всех подробностях знали об успехах Виктора. Пройти на завод, полюбоваться вымпелом, портретом сына на цеховой Доске почета мать не могла, но о том, как его фотографировали, что написано под фотографией, без устали рассказывала соседкам. Газету Виктор принес домой и сам прочитал заметку Алова матери. Прочитал он её не всю, остановился на призыве следовать его, Виктора Гущина, примеру. Читать об Алексее, а потом объяснять не хотелось. Просто противно. Газету он спрятал в ящик стола… Утаить не удалось. На следующий день мать за обедом спросила:
— Что это, Витя, дружок твой не показывается?
Милка стрельнула в брата глазами и наклонилась над тарелкой.
— А зачем он тут нужен? — хмуро сказал Виктор.
— Ну как же — то водой не разольешь, чуть не каждый день, а теперь как отрезало.
— Они, мама, поссорились, — сказала Милка. — Об этом даже в газете писали.
— А тебе какое дело? Ты что, у меня в столе шаришь? Лучше бы за собой следила. Вон вся вывеска исцарапанная!
Милка покраснела, прикрыла кулаком царапину на щеке и наклонилась над тарелкой, чтобы скрыть слезы незаслуженной обиды, но предательская капля шлепнулась прямо в борщ.
— Ничего я не шарю. Мне Мишка сказал, потому что Сережа дома рассказывал, а потом взял у Сережи газету и показал… Думаешь, только у тебя газета есть?
Об этом Виктор забыл. Семья Сергея Ломанова по-прежнему жила рядом, Милка по-прежнему дружила с братишкой Сергея. С раннего утра и до поздней ночи, пока мамы не загоняли их по домам спать, они не расставались больше чем на полчаса, и, если одному случалось уйти, другой мыкался как неприкаянный и через несколько минут отправлялся разыскивать ушедшего. Они играли вместе, всюду ходили вместе, вместе переживали события в семьях, во дворе, в их квартале и все отголоски большой жизни взрослых, которые доходили до них. Соседки, посмеиваясь, называли их «неразлучниками» и, пригорюнившись, добавляли: «Кабы взрослые так-то могли да умели…»
И вот эти неразлучники едва не расстались «навеки», как сказала Милка, и, более того, подрались, что прежде с первого дня их знакомства не случалось никогда. Причиной была злополучная статья Алова в заводской газете.
Спозаранку у них было намечено испытание «реактивного торпедного катера». Выброшенную кем-то жестяную лодочку с продырявленным боком и облезлой краской Мишка подобрал на соседней улице. Сергей запаял дыру, покрасил заново, и лодка получилась что надо, совсем как торпедный катер, хотя скорее напоминала катер пожарный: за отсутствием шаровой, серой, краски Сергей покрасил ее в ярко-красный цвет. Вот только двигателя у неё никакого не было. Сергей сказал, что теперь, наверно, надо ставить реактивный, чтобы скорость давала как полагается, но от просьб сделать такой отмахнулся, сказал, что ему некогда заниматься игрушками, пора на работу и пускай они сами мозгуют, не маленькие. Милка и Мишка долго мозговали, пока не вспомнили о Викторовой ракете, которая должна была без пересадки долететь до Луны, но далее бурьяна на пустыре не залетела. Виктор в качестве горючего для своей ракеты употреблял фотопленку, а пленки дома хватало — Сергей иногда занимался фотографией и отдавал Мишке всю засвеченную или неудавшуюся пленку. Мишка делал из нее «пшикалки» — поджигал и смотрел, как они, шипя и воняя гребенкой, сгорают. Теперь для неё нашлось настоящее применение. Прикрутив рулончик пленки к корме лодки, они отправились испытывать. Железная бочка под водосточной трубой тщетно дожидалась дождей, но Сергей каждый день для поливки огорода наполнял её доверху водой, которую приходилось носить ведрами от колонки. Вот тут-то, наклонившись над бочкой и опуская в воду свой корабль, Мишка, должно быть, вспомнил все обстоятельства, участников неудачного запуска Викторовой ракеты и произнес роковую фразу: