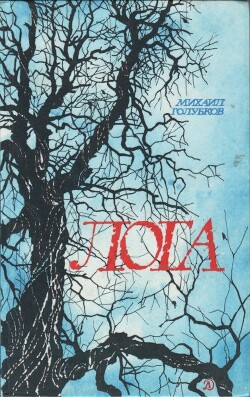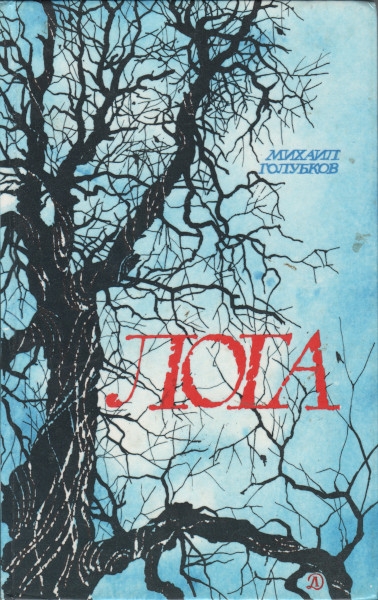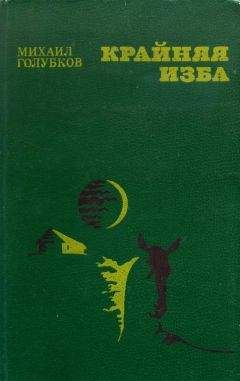— Что, Игнатий Терентьевич, без ружья ходишь? — спросил он за чаем. Оба сидели распаренные, ублаженные, подливая и подливая в кружки. — Осень ведь... рябчишки поют, глухари кое-где взлетают.
— Не до ружья сейчас, отошло времечко, — вздохнул Игнатий, — себя едва ношу. Я было совсем обезножил, два года почти никуда не выходил. За хлебцем в магазин только да водички из колодца принести.
— Слышал, слышал... говорил кто-то.
— Ну а нынче болезнь послабление дала. Надумал поохотничать зимой. Не как раньше, конечно, а для души... последний сезон. Вы же мне удружили — Плутаиху загадили, вонище на весь лог, какую холеру я поймаю. У меня в этом логу самый промысел, вся надежда была... В другие лога мне не ходить уже, не осилить. Да и везде, наверно, не лучше теперь?
— Не лучше, Терентьевич, не лучше. Я сам не знаю, где порыбачить. Были у меня две заветные, тайные речушки, носил я из них харюзков, а еще прошлым летом пришлось завязать, на одни ягодки да грибки переключился. Нефть ведь она как, ей только стоит раз хорошенько попасть — и нет речки.
— В большие ведь реки вода эта идет... В Каму сначала, в Волгу потом. Откуда людям здоровыми быть? Попей-ка такую водицу... Внучата вон наезжали, из городов-то, когда еще Проня жива была, дак смотреть на них — тоска смертная — бледные, тощие, будто в подполье растут. И не мудрено, там с одной воды захиледать можно.
— Не наезжают, значит, больше?
— Кому я, старый да дряхлый, нужен. Это Проня, бывало, напечет, настряпает... да молочка парного поставит, да сметанки — вот они бегают лето, набирают краску на щеки. А кому сейчас за ними доглядывать, сейчас за мной самим доглядчик нужен. Лет уже пять не было внучат. Повырастали небось, повытянулись. Взглянуть бы хоть одним глазком.
— Внучатам простительно... несмышленыши. А вот что папки и мамки ихние думают?
— Пишут — некогда все, хлопот много. Да и шибко далеко они у нас разъехались. Один аж на Дальнем Востоке... в летчиках служит. Дай бог, собрать всех, когда помирать стану. Проню вон все проводили.
— А меньшой?.. Близко ведь совсем живет.
— Ванятка-то? Тот приезжает. Этому долго ли от райцентра, двадцать каких-то километров. Сел на попутку или автобус — и тут. Вместе с женой приезжают. Она у него хоть и строптивая, с норовом, все чтоб по ней было, но ничего бабенка. Дом мне всегда приберет, одежду состирнет... А то и Татьянку с собой прихватят, трескуху, вертушку эту. Эта меня всего затормошит, затеребит.
— Ох, детки, детки... — вспомнил, видно, Кузьмич и своих сыновей и дочерей. — К себе жить никто не навеливают?
— Навеливают, как не навеливают. Только куда я под старую задницу поеду. Здесь я хоть на лес, на поля, хоть издали да погляжу. А там? Какого беса я не видел в городе. Там и посидеть спокойно негде. Везде шум, колготня, угар от машин... Мы к детям и с Проней не лишко выбирались: один раз в Челябинск, другой — в Киров. А уж на Дальний Восток и рукой махнули. Ребятишек нам оттудова привезут на лето — мы и рады. Я только в войну в далях побывал. Теперь же какой из меня ездок, какой переселенец. Детки ведь хорошо знают, что меня никуда не стронешь, потому, может, и предлагают наперебой, — усмехнулся Игнатий. — Да и куда мне спешить с этим?.. Старухи вон заверяют: какой, дескать, ты старик, Игнатий, ты, мол, еще любого мужика скрутишь. Скрутить, может, и скручу, силенкой бог не обидел, а вот ходули свое поют.
Игнатий осторожно встал с чурбака, прошелся, припадая на обе ноги.
— Не знаю, как и идти. До дому-то эвон сколько, не скоро и на здоровых ногах дотопаешь. Много ли набродил сегодня, а сказалось.
— А ты не ходи никуда, останься, — предложил Кузьмич. — Здесь заночуй... Поужинать тебе хватит, — показал он на стол, — хлебушек, сахарок есть... яйца, огурцы, помидоры. Мне жена накладывает-накладывает каждый раз в сетку, а я не съедаю. Желудок сухого не принимает, язва у меня... Отоспись, отдохни. Завтра со свежими силами встанешь и пойдешь. Или сначала помощничка моего встреть, дай ему нагоняй хороший. Утром я обязательно в контору позвоню, сегодня уже не успею, никого не застану.
— Он во сколько приходит?
— К девяти должен, не позднее.
— А что, — надумал Игнатий, — подожду, пожалуй. Я с ним по-своему потолкую.
— Вот и ладно, — одобрил Кузьмич. — Снимай вон еще матрац сверху и ложись. Прохладно станет — включи электропечки. А я побегу, — одевался он на ходу. — Пока до поселка доберусь — и стемнеет, шесть километров все-таки. Будем здоровы, Игнатий Терентьевич. Зимой, когда промышлять начнешь, заскакивай обогреться.
— Заскочу, заскочу... спасибо, — вышел проводить Кузьмича Игнатий. Тот своей легкой, прыгающей походкой направлялся через вырубку к югу, там протянута телефонная линия в поселок. По телефонке Кузьмич, видно, и бегает с работы и на работу.
Солнце уже касалось леса, негреющее, красное. Дневной ветерок стих, небо от края до края покрылось блеском, холодным зеленоватым свечением. Ночь обещала быть с крепким заморозком, такой пронизывающей, хваткой стылостью тянуло уже от земли.
Огня в ямах не видно, выдохся, но чад еще шел, стлался над вырубкой слабой, рассеянной пеленой, будто невесть откуда свалившаяся морочь, и исчезал, распылялся где-то у леса, западал в кустарниках и ложках, тяжел, видно, был, не принимало его небо.
8
Увидев следы возле вагончика, четко выдавленные на заиндевелой траве, Ларька остановился, не сунулся сразу в дверь. Кто-то ночевал в вагончике, кто-то выходил по малой нужде. Ларька на всякий случай спрятал ружье и патронташ под крылечную лесенку. Если в вагончике охотник, то он может охотничий билет потребовать. Отберет еще ружье за милую душу, хоть Ларька и хозяин здесь. Смотря, однако, какой охотник, у иного можно за ночлег и патронов попросить. Ларька так не однажды разживался.
На кровати, к большому удивлению Ларьки, лежал Игнатий Куприянов. Этого надо опасаться не меньше чужого охотника. Он хоть и свой, кондратьевский, но тоже готов за лес любому башку открутить, помешался на лесе. И главное, здоровый еще старикан, быка, если понадобится, свалит, в драку на него не больно попрешь. Правильно, что ружье спрятал.
— Привет, Игнатий! Ты как тут очутился? — весело обратился Ларька.
Игнатий, заскрипев кроватью, сел, утвердил на полу босые, отекшие ноги, порастирал их через штаны в икрах и коленках. Спросил, не ответив:
— Сколько времени?
— Двадцать минут десятого, — посмотрел на часы Ларька.
— А ты ко скольки должен на работе быть?
Нет, с этим Игнатием не наговоришь нормально. Чего вяжется? Какого шута надо? Переночевал — должен в первую очередь спасибо сказать, а он еще и права качает. И Ларька с привычной для него наглостью фыркнул:
— Тебе-то что за дело? Проверяющий, контролер нашелся.
Игнатий прошил парня взглядом, из-под дремучих, сросшихся бровей. Но сказал пока спокойно:
— Ладно, потом... Беги-ка сначала, включай насос, а то ведь еще сплавишь.
Так вот он здесь зачем. Из-за Плутаихи. И все уже, старый хрен, знает. Кузьмич, конечно, постарался, наболтал, не пожалел слов.
— Без указчиков, без указчиков обойдемся, — хорохорился Ларька. — Сам знаю, что делать. Я здесь работник, а не ты.
— Беги, говорят! — добавил в голосе Игнатий.
— Не рычи, не больно-то испугались... Ишь какой: сидит на чужой постели, чужим теплом обогрелся да еще рычит.
Ларька нарочно долго, часа полтора, возился на установке, думая, что Игнатий не вытерпит и уйдет, оставит его в покое. Он почистил, подмел прутьевым веником насосную площадку, обошел и проверил работу всех качалок, тогда как в другое время редко это делал. Он даже лопатой поковырялся, присыпал, притоптал промоину в обваловке факельной свечи. Но Игнатий не выходил и не выходил из вагончика. Куда ему торопиться? Он и весь день может просидеть. Придется идти. Еще вообразит, пожалуй, старикан, что его боятся.