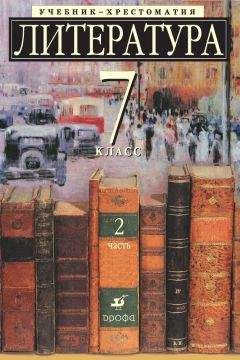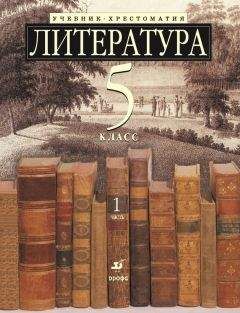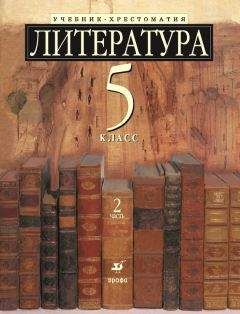Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль», – не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был ресторирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице, но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли внимание почти всех. Много уже из состязавшихся с ним отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:
– Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.
Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду; все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.
– Как ни странны вам покажутся слова мои, – продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, – но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяют, что портрет есть тот самый, которого я ищу.
Весьма естественное любопытство загорелось почти на всех лицах, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.
– Вам известна та часть города, которую называют Коломною. – Так он начал. – Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, – людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни сё ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров[33], отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра: иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.
Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут все пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеят из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина моста до толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный эконом не нашел средств улучшить состояние. Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам, и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в их душах всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один… но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказывать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один – существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей. Но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так по крайней мере говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих – это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи – это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны. Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и, наконец, расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и, наконец, обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция[34]. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал, наконец, подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть, наконец, престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердца многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант[35] не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа: гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды – все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь. Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слияние нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандисон[36] во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог, наверно, изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томления, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собой толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движеньи неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и без сомнения заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя и в ужаснейших муках окончил жизнь. Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волосы и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют притягающее свойство, раскаляются сами собой и носят какие-то странные знаки… словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерно высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды, все, казалось, как будто говорило, что перед страстями, двигавшими в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: дьявол, совершенный дьявол! Но надобно поскорее познакомить вас с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории. Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный одною только жаждою усовершенствованья, шедший по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою, одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете, постигнул сам собой истинное значение слова: историческая живопись; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью, и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre[37], несмотря на все притязания художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько даже черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно, и резко.