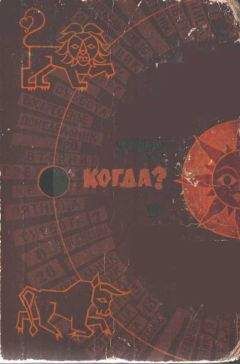Как это случилось?
Светозарное Солнце, «душа природы», у всех древних народов почиталось как одно из высших божеств, властитель неба, неиссякающий источник света, тепла, самой жизни. И естественно, свой главный праздник земледельцы связали с уборкой урожая, ниспосланного этим богом.
В жарких странах хлеб созревает в пору весеннего равноденствия и урожай начинают убирать в марте — апреле. Праздник урожая евреи назвали пасхой, а потом посвятили его ожидаемому пришествию своего спасителя — мессии.
В Риме поклонники Аттиса тоже весною справляли свой скорбно-траурный и веселый праздник. В храме этого бога 23 марта торжественно водружали только что срубленную сосновую ветвь, украшенную фиалками и обвитую тканью, — тело покойного бога, по сказанию, умершего под сосною.[34]
На следующий день жрецы, безжалостно истязая себя в религиозном экстазе, вместе с верующими оплакивали смерть любимого бога. А на третий день, 25 марта, когда по юлианскому календарю наступало весеннее равноденствие, праздновали воскресение Аттиса. Торжественная музыка гремела в храме, а вокруг него и на улицах столицы верующие в безудержном ликовании пели и плясали, радуясь тому, что и они воскресли к новой жизни вместе с Аттисом.
Не беда, что этот бог чужд еврейской пасхе в честь мессии — христианские общины объединили оба торжества и стали справлять свою пасху как печально-радостный праздник в память смертных страданий и воскресения Христа. Даже древнееврейскому названию праздника «пейсах» — умилостивление бога — был навязан иной смысл от созвучного греческого слова «пасхейн» — страдать.
Христиане праздновали свою пасху в одно время с еврейской. И такое совпадение никого не смущало почти триста лет, но за это время неузнаваемо преобразилась христианская религия.
Ничего странного в этом нет. Любая сказка, порожденная народной фантазией, не остается неизменной: она обновляется, приспособляется к новым надеждам и стремлениям. Но вот что странно: почему христианство, восприняв нелепые сказания о страдающих, умирающих и оживающих богах-спасителях, оказалось более жизнеспособным, чем языческие религии?
Близость Христа к наивным языческим божествам и мессиям объясняется не случайным совпадением, а кровным родством. Может быть, как остроумно заметил один историк, «дорожка религиозного шарлатанства так узка, что на ней легко столкнуться проповедникам, даже не желающим этой встречи»? Нет, секрет не в этом.
Христианство вовсе не такая уж произвольная мешанина, не механическая смесь различных верований, собранных с бору да с сосенки. Проповедники новой религии умело и ловко отбирали такие древние сказания, которые были близки и понятны большинству населения. Именно эта гибкая «оперативность» облегчала уловление новых душ, ускоряла распространение христианства, помогала ему стать мировой религией.
Для этой религии не было инородцев и иноверцев, она призывала под свою сень людей, на каких бы языках они ни говорили, в каких бы богов ни веровали и кем бы ни были: рабами или рабовладельцами, знатными богачами или безродными бродягами, мужчинами или женщинами, седыми старцами или безусыми юнцами. По сути дела, христианство стало первой в истории международной религией, пригодной для, всех людей. Язычники и особенно евреи отделяли себя от инаковерующих, порождая непримиримую рознь и вражду: у каждого народа свои боги, свои верования и обряды, свои вековечные обычаи и традиции.
Христианство сначала отказалось от таких обрядов, которые были чужды, непонятны или неприятны идолопоклонникам и могли бы оттолкнуть их. Напротив, заимствованный у них же образ спасителя, привычный, родственный, привлекал язычников. Больше того, обновленный бог, воплотившийся в простого, земного человека, был ближе, чем сердитые и грозные небожители, или неодушевленные идолы, как бы их ни украшали. Христианство требовало лишь одного: признайте, что новоявленный спаситель Иисус — это Христос, избранник бога, полномочный посол его и представитель на грешной земле. А с этим охотно соглашались многие язычники.
Первые христианские общины возникли в середине I века и состояли из рабов, свободных бедняков, мелких ремесленников, бездомных бродяг. Во II веке к ним стали примыкать и состоятельные люди, возмущенные произволом и вымогательством римских правителей. Даже крупные помещики-рабовладельцы, ростовщики и прочие богатые господа всецело зависели от милостей или гнева своего владыки-императора, как рабы — от своего хозяина.
Захочет император — и он без долгого раздумья приговорит к самоубийству любого богача, чтобы овладеть всем его состоянием. Но, увы, и без этого деспота-диктатора не обойтись: как-никак в его руках могучая армия, которая защищает от бунта рабов. Волей-неволей приходится мириться с неизбежным злом…
В это беспокойное время малодушные предавались бессильному отчаянию. У кого нервы были прочнее, тот считал за благо покориться слепой судьбе: чему быть, того не миновать, а пока не пришел горький час, «хватай день» — бездумно наслаждайся всеми радостями бытия.
Были и такие, что искали утешения в религии, но уже не верили в обветшавших языческих богов. А христианские проповедники убеждали, что их бог спасет от всех невзгод — нужно только верить в него, стремиться к самосовершенствованию, отказаться от мирских благ и прочей суеты, которая ничего, кроме огорчений, не сулит. Мудрено ли, что на этот необычный призыв откликнулись и многие состоятельные люди: с горечью осознали они свое бесправие и бессилие изменить настоящее, утратили надежды на лучшее будущее, изверились решительно во всем…
Христианские общины охотно принимали к себе зажиточных ремесленников, богатых купцов и землевладельцев: ведь именно они, а не нищая братия приносили ценные дары и пожертвования. Многие богачи, напуганные христианскими пророчествами о близком конце света, отдавали все свое состояние или завещали его общине, чтобы заслужить посмертную райскую награду.
Само собой разумеется, что только этим достопочтенным людям, а не рабам и беднякам можно было доверить разбогатевшую кассу и кладовую общины, все ее хозяйство. Сначала такие завхозы-надзиратели, или, по-гречески, епископы с их помощниками, дьяконами, не имели никаких особых преимуществ: в общине все равны. Но росли общины, множились их богатства, возвышались авторитет и влияние епископов. Понемножку они стали полновластными владыками — царьками общин: слово их — закон, которому беспрекословно обязаны повиноваться все верующие.
Теперь уже не бродячие апостолы-связные от случая к случаю наведываются в разобщенные общины. Епископы, полномочные представители верующих, устанавливают постоянные связи друг с другом. Зарождается церковь с обильным штатом духовенства: она должна связать в единое целое разрозненные общины, живущие по своим «самостийным» укладам и уставам.
Разве можно допустить, чтобы каждый на свой вкус и страх толковал вкривь и вкось легенду о Христе? Необходима единая догма — обязательное, как непреложная истина, вероучение для всех. Вот когда, в середине II века, окончательно сложилось «ниспосланное свыше благовествование» о земной жизни богочеловека.
Приспела пора пересмотреть и свести воедино разноречивые сказания о жизни и чудесах, смертных муках и воскресении спасителя. Об этом позаботились руководители церкви и богословы, составив Новый завет. Из десятков евангелий были отобраны только четыре, к ним были добавлены «Деяния апостолов» и многочисленные «послания».
В самый конец Нового завета, на последнее место, было загнано первое литературное произведение христианства — знаменитый Апокалипсис. Пусть-де пореже вспоминают об Откровении Иоанна Богослова с его непримиримой, исступленной ненавистью к Риму и гневным обличением этой погрязшей в грехах и пороках «блудницы Вавилонской». Забыты и грозные предсказания о близком конце мира, о пришествии Христа, который установит царствие божие на земле.
Настали другие времена. Конец мира проповедники отодвигают в неведомо далекое будущее, а царствие божие со всеми его блаженствами возносят на небеса. И долгожданная райская награда за земные страдания уютно уживается с долгом смирения и покорности.
«Отцы церкви» строго соблюдали чистоту веры христовой… в угоду богатым и знатным членам общин. Куда девались пламенные проповеди против сильных мира сего и рабства, презрение к богатству, пророчества о мести угнетателям?
Быстро излечивалось христианство от этих мятежных настроений. Правда, и раньше оно никогда не звало к открытой борьбе и революционным восстаниям. Проповедники только на словах осуждали рабство, провозглашая равенство и братство лишь перед богом: ведь все люди — рабы его.