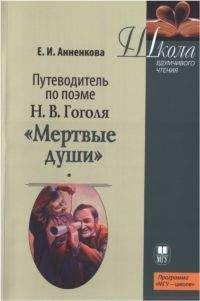Итак, минуты наивысшего торжества, успеха оборачиваются для Чичикова поражением. «Негодование» дам, оскорбленных невниманием, уже совершало невидимый поворот общественного мнения, но все же решающую роль сыграло появление Ноздрева с его восклицанием: «А, херсонский помещик!.. Что? Много наторговал мертвых?» (VI, 171–172). В первый момент оно показалось столь необъяснимым, что все пришли «в замешательство», и покой города оказывается непоправимо нарушен.
В поэме вновь появляются герои, уже знакомые читателю по первым главам, но теперь они раскрывают себя с новой стороны. Гоголь не изменяет радикально характеры, не обнаруживает некие невидимые прежде психологические черты героев-помещиков. По-прежнему неуемен Ноздрев, прижимист Собакевич, опаслива (не продешевить бы) Коробочка. Но действительность — волей автора — словно утратила некие точки опоры, сдвинулась со своего устойчивого места, понеслась («пошла писать губерния» говорит про себя Чичиков, оглядывая зал с мелькающими в танце парами), и этот вихрь жизни подхватил всех без исключения, бытовым поступкам и словам придавая оттенок абсурда, нелогичности.
Что хочет Ноздрев? Уличить Чичикова? Вряд ли. Привлечь к себе всеобщее внимание? Для этого он слишком непроизволен и непрактичен. А может быть, ему и в самом деле не дает покоя вопрос, зачем Чичиков покупал мертвые души? Может быть, ему досадно, что самому не пришла в голову столь непривычная идея?
И вновь перед нами немая сцена: «Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением» (VI, 172). Бессмысленное, кажущееся бесконечным движение прекратилось на лету, замерло неестественным образом. Эту неизъяснимую и досадную остановку губернский город пытается преодолеть, спешит вернуть жизнь в прежнее русло. Павел Иванович садится играть в вист (правда, делает изумляющие всех ошибки), Ноздрев выведен из залы (после того как «посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих» — VI, 174). Восстановленное движение, однако, придает жизни уже вовсе алогичные, даже абсурдные черты: «Офицеры, дамы, фраки — все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловкостию предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги» (там же).
Комната гостиницы, в которой скрывается Чичиков, потерпевший фиаско и ставший похожим «на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой» (там же), — «комнатка», напоминает автор, стараясь вызвать улыбку, знакомая читателю, «с дверью, заставленной комодом и выглядывающими иногда из углов тараканами» (там же), теперь она не побуждает героя сделать «антраша»: «Положение мыслей и духа его было так же неспокойно, как неспокойны те кресла, в которых он сидел» (там же). Читатель, знающий дальнейшее развитие сюжета, может испытать некоторое недоумение. В заключительной главе будет представлена биография Чичикова, и она не оставляет сомнений в том, что этот «ни толстый, ни тонкий» господин умел найти выход из любой ситуации. Не все ему удавалось, но он не падал духом, не терял уверенности в себе, разве что недолго сетовал на коловращение жизни. Теперь же «неприятно, смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там» (там же). Душевное смущение, внутреннюю пустоту героя отмечает автор, и мы можем понять, почему в следующем томе он предполагал привести Чичикова к потребности душевного очищения. Однако автор собственное знание героя отделяет от его самооценки. Как ни «смутно» было на сердце, Чичиков сетует только на внешние обстоятельства. «„Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы!“ говорил он в сердцах» (VI, 174). В его устах упрек в бездумности жизни звучит комично: «В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы!» (там же). Но можно заметить, что не отказываясь от комического эффекта, автор передает герою те суждения, которые вскоре выскажет сам в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: о чиновниках, берущих взятки для того, чтобы удовлетворять прихоти жен (как сказано в «Мертвых душах», «жене достать на шаль или на разные роброны»); «губернаторше» в «Выбранных местах…» он советует: «Гоните роскошь… Не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно затем, чтобы показаться в одном и том же платье, три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево и просто» (VIII, 309).
Чичиков испытывает досаду от того, что под угрозой оказалась столь удачно проведенная сделка, но, находясь в необычном для него «неспокойном состоянии», невольно начинает испытывать дискомфорт и от тех форм жизни, на искусственность которых прежде не обращал внимания: «Кричат: „бал, бал, веселость!“. Просто, дрянь бал, не в русском духе, не в русской натуре; черт знает что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами… Что француз в сорок лет такой же ребенок, каким был в пятнадцать, так вот давай же и мы! Нет, право… после всякого бала точно как будто какой грех сделал; и вспомнить даже о нем не хочется» (VI, 174–175). Продолжение текста и вовсе создает впечатление, что размышления Чичикова подхватил и развил сам автор: «В голове, просто, ничего, как после разговора с светским человеком: всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек, пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес, и видишь потом, как даже разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек» (VI, 175). Автор еще раз заметит, что Чичиков, конечно, сетовал не на балы, а на то, что случилось с ним, но словечко странный еще дважды появится в этом контексте. Чичикову досадно, что он «сыграл какую-то странную, двусмысленную роль»; «странен человек, — прокомментирует автор, — его огорчало сильно не рас положенье тех самых, которых он не уважал» (там же). Чичиков рассуждает о предметах, мало его занимавших. Но автор знает: «странен», непредсказуем, загадочен, сложен человек, и многое может случиться с ним на жизненном пути не только по воле внешних обстоятельств, но и потому, что неведомы ему самому скрывающиеся глубоко внутри его собственные потребности и способности.
Наметив новый образ Чичикова, сказав в заключение, что тот всю ночь «сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей» (при этом «угощая усердно Ноздрева и всю родню его» — VI, 176), автор переходит к другому персонажу, также томимому бессонницей. В закоулках города «дребезжал странный экипаж». Поистине странность становится определяющей чертой жизни губернского города. Экипаж Коробочки, который «был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса», переполненный «ситцевыми подушками», «мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста» (там же), въезжает в город и усиливает атмосферу абсурда, порожденного неизъяснимым сочетанием материального и трансцендентного. Обеспокоенная тем, не продешевила ли, заключив сделку с Чичиковым, Коробочка приезжает в город с интригующим вопросом: почем ходят мертвые души? — и губернский город начинает приобретать отчетливые черты мира, находящегося в преддверии Страшного суда.
Глава невелика, и авторские рассуждения в ней далеки от лирического пафоса. Автор делает вид, что принимает образ жизни и привычки губернского города, где опасно ненароком кого-то задеть, где требуется осторожность и даже деликатность. Как назвать двух дам-приятельниц, которые обсуждают приезд Коробочки? Автор имитирует робость писателя, затрудняющегося подобрать имена своим героям: если назовешь вымышленной фамилией, употребишь случайное имя, найдется «в каком-нибудь углу нашего государства… кто-нибудь, носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть», назовешь «по чинам» — «и того опасней» (VI, 179).
Автор балансирует на некой зыбкой грани: он воссоздает, имитирует мышление жителей города и одновременно изучает, смотрит на него со стороны, иронично передает все мельчайшие особенности речи, погружает читателя в бессмысленный, но динамичный, почти агрессивный поток слов, который изливается из уст дам «просто приятных» и «приятных во всех отношениях». Две безымянные героини, отличие которых обозначено и тут же нивелировано повтором одного и того же слова приятная, погружены в плоть быта, маскирующегося под нечто возвышенное и тонкое, но на самом деле лишь невольно пародирующего духовное содержание жизни.
Явившаяся сообщить своей приятельнице о приезде в город Коробочки, «просто приятная дама» надолго забывает о цели своего визита, каким бы важным он ей ни казался. «„Какой веселенький ситец!“ воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы» (VI, 180). Предметом разговора и становится прежде всего этот самый ситец, т. е. материя в буквальном смысле слова. Оказывается, она может стать неистощимой темой разговора и спора. Фразы дам, обращенные друг к другу, адресованы одновременно и читателю: «…вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки…» (там же). Вспомним упомянутые далее дамами «фестончики»: «пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики» (VI, 181). Сквозь восторженное восклицание дамы проступает авторская ирония; «везде фестончики и одни фестончики!» — мог бы воскликнуть именно он, подытоживая разговор. Но, оказывается итог подводить рано. Дамы должны поговорить о «юбках», «лифчиках», «фижмах» и многом другом, но все о том же. Мы находим в тексте бесчисленные повторы слов, идет ли речь о моде или о Чичикове («он негодный человек, негодный, негодный, негодный» — VI, 182). Лексикон дам не слишком разнообразен. Он питается обыденными заботами да массовой литературой. Именно по законам последней выстраивается, а точнее, передается рассказ Коробочки о приезде к ней Чичикова: «Совершенный роман: вдруг в глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук, ужаснейший, какой только можно себе представить; кричат: „Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота…“» (VI, 183). Эстетика необычного, даже фантастического втягивает в свою орбиту дам, подуставших от повседневной жизни, в том числе, быть может, и от «фестончиков»; и вот уже они сами становятся авторами увлекательного сюжета о попытке Чичикова тайно увезти губернаторскую дочку.