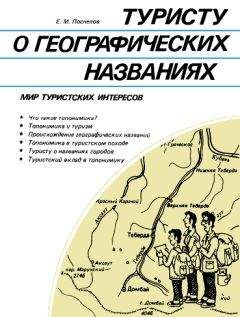Подобно гигантской чаше, раскинулось озеро, окаймленное с севера и с юга хребтами Кунгей- и Терскей-Алатау. Все вокруг дышало дикой суровой красотой: и пустынное зеленовато-синее пространство воды, уходящее вдаль и сливающееся там с безлесными, несколько угрюмыми берегами; и возвышающиеся громады гор, увенчанные кипенно-белыми шапками вечных снегов; и наш теплоход, кажущийся неправдоподобно крошечной песчинкой рядом с вздыбившимися к небу хребтами, незыблемо могучими и прекрасными в своей первозданной строгости.
Жар знойного июльского дня несколько умерялся свежим солоноватым ветром, будоражившим поверхность Иссык-Куля. Волны беспорядочно наскакивали одна на другую, исполняя какой-то диковинный, им одним известный танец. Вслед за волнами причудливый танец повторяли отраженные в воде солнечные лучи, и, казалось, все озеро искрилось и переливалось, как огромный бриллиант с бесчисленным множеством граней.
Я стоял у борта и, облокотившись на поручни, любовался этой непередаваемой игрой солнца и воды на поверхности озера. А в глубине, там, куда едва достигал дневной свет, мне казалось, вырисовываются странные очертания каких-то сооружений, как будто на дне покоится обширный город с крепостными стенами, дворцами, башнями и минаретами.
Пораженный этим сказочным зрелищем, я поспешил поделиться своими впечатлениями с стоящим неподалеку от меня пассажиром.
Выслушав меня, он улыбнулся, кивнул головой и сказал:
— В том, что вы говорите, нет ничего удивительного, — и, заметив на моем лице выражение недоумения, разъяснил: — Не вы первый и, очевидно, не вы последний, кто, путешествуя по Иссык-Кулю, наблюдает эту картину. Но если до последнего времени считалось, что это не более как игра преломленных на глубине солнечных лучей, то теперь есть основания предполагать нечто иное.
— Но что же? — заинтригованный, спросил я.
— О, это долгая история, — снова улыбнулся мой случайный собеседник. — Впрочем, если вы располагаете свободным временем, я с удовольствием поделюсь с вами тем, что мне известно.
Нетрудно догадаться, что у меня оказалось свободное время. Мы удобно расположились в креслах, и мой новоявленный знакомый приступил к рассказу.
— Пожалуй, лучше всего будет, если я начну издалека, — как бы советуясь с самим собой, сказал он задумчиво. — Не знаю, знакомы ли вы с многочисленными сказаниями и легендами, бытующими у нас в Киргизии, и, в частности, с легендами, живописующими возникновение озера Иссык-Куль? — Он вопросительно посмотрел на меня и, получив отрицательный ответ, продолжал: — В таком случае я расскажу вам одну из них. Она занятна и не лишена поэтичности.
— Давным-давно, сотни лет назад, там, где теперь вечно шумят волны озера Иссык-Куль, была цветущая равнина. На покрытых сочной травой пастбищах бродили тучные отары овец и табуны лошадей. В многочисленных городах и селениях кипела жизнь, по дорогам нескончаемой вереницей двигались торговые караваны.
Слухи о богатой стране и ее прозорливом правителе разнеслись далеко по свету. Много рассказывали о хане, о его мудрости и справедливости. Но при этом добавляли, что никому еще не удалось увидеть лицо хана, ни его подданным, ни иноземным гостям, посещавшим страну. Чем объяснить столь странное поведение всеми почитаемого правителя? Люди терялись в догадках. Таинственность, окружавшая хана, давала пищу различным толкам, подозрениям, сплетням.
Единственными людьми, которые могли бы похвалиться тем, что лицезрели хана, были брадобреи, которых регулярно вызывали во дворец. Но странное дело, стоило какому-нибудь брадобрею побывать в резиденции хана и выполнить свои обязанности, как он исчезал бесследно, будто сквозь землю проваливался. Злые языки утверждали, что по приказанию хана брадобреев убивали, дабы они не могли выдать его тайны. Очень может быть, что их догадки были близки к истине.
Так продолжалось до тех пор, пока во всей стране не остался один-единственный брадобрей. Это был молодой человек, скорее юноша, унаследовавший ремесло от своего отца, скончавшегося несколько лет назад. Он жил в небольшом скромном домике вместе со своей старушкой матерью. Со страхом и трепетом ожидала она, когда дойдет черед до ее единственного сына идти в ханский дворец.
И вот настал этот ужасный для нее день. Утром, когда солнечные лучи едва еще золотили вершины окрестных гор, около их домика раздались конский топот и громкая речь. Встревоженная женщина вышла на порог и увидела нескольких всадников, остановившихся у ее двери.
— Эй, старая! — повелительно крикнул один из них, — поднимай своего сына, да побыстрей! Пусть собирает свой инструмент и не заставляет себя ждать. Сам хан приказал ему явиться во дворец.
Юный брадобрей слышал эти слова и, вскочив с ложа, сказал, обращаясь к посланцам хана:
— Жизнь моя принадлежит нашему повелителю. Я готов следовать за вами.
Он простился с матерью, вскочил на коня, и весь отряд ускакал, подняв облако пыли.
Долго еще стояла на пороге дома старая женщина, устремив затуманенный слезами взор на дорогу. Она не чаяла увидеть снова сына, и сердце ее разрывалось от горя.
Между тем юный брадобрей в сопровождении слуг хана прибыл во дворец и тотчас же был введен в опочивальню властителя страны. Слуги не переступили порога опочивальни (им это было запрещено под страхом смертной казни) и остались за дверью в ожидании приказаний.
Всесильный хан возлежал на низком, богато убранном цветистыми шелками ложе. Юноша робко взглянул на могущественного владыку, от одного слова которого зависела его судьба, и едва не вскрикнул от удивления. «Так вот почему хан не показывается на людях и не допускает никого к себе, — молнией мелькнула мысль. — О Аллах! У него ослиные уши! Не сносить мне теперь головы!»
В это время раздался мягкий голос хана:
— Подойди ближе, брадобрей, и выкинь из сердца страх, который я читаю на твоем лице. Ты родился под счастливой звездой. Я сохраню тебе жизнь, ты мне нужен. Но помни, — кроткие глаза хана при этом зажглись на мгновенье гневом, — если хоть одно слово о том, что ты видел и слышал здесь, в моей опочивальне, слетит с твоих уст, ты погибнешь страшной мучительной смертью и принесешь неисчислимые беды всему народу. Поклянись же, что выполнишь мое повеление, а затем приступай к делу.
Дрожащий от страха юноша распростерся ниц на ковре и, не поднимая головы, поклялся страшной клятвой свято хранить доверенную ему тайну. После этого он исправно выполнил свои обязанности и, получив щедрое вознаграждение, покинул дворец, не чуя под собой ног от страха и радости. Страха — потому, что он еще не был уверен в своем чудесном спасении, радости — потому, что был любящим сыном и предвкушал встречу со своей старушкой матерью…
Шло время. Благодаря частым посещениям ханской резиденции брадобрей вскоре стал состоятельным человеком и, казалось, мог быть вполне доволен своей судьбой.
А между тем соседи начали примечать, что прежде жизнерадостный, общительный юноша становился с каждым днем все угрюмее и мрачнее. Он сторонился людей, стал скуп на слова, даже осунулся. Можно было подумать, что его точит какая-то тайная болезнь.
Мать не находила себе места от беспокойства. Несколько раз она пыталась вызвать сына на откровенность, но он только махал рукой и, не произнося ни слова в ответ, уходил прочь.
Однажды, возвратившись из дворца, молодой человек, не притронувшись к еде, заботливо приготовленной для него матерью, опустился у ее ног и обратился к ней с такими словами:
— О мать моя! Ты дала мне жизнь, так помоги же мне, чтобы эта жизнь не была мне в тягость.
— Но чем же я могу тебе помочь, сын мой, если я не знаю причины твоей тоски? — с волнением ответила старая женщина.
— Я не могу больше так жить, — со слезами на глазах продолжал юноша, — скажи, что мне делать. Меня гнетет тайна, которую я узнал в ханском дворце. Ни днем, ни ночью не дает она мне покоя. У меня нет больше сил сохранять ее. Я должен, должен кому-нибудь ее поведать. Все равно кому. Но если я это сделаю, меня ждет мучительная смерть, да и не только меня. Что же мне делать? Помоги мне! Посоветуй, как мне облегчить душу?
Поникла головой женщина. Задумалась она о том, как помочь сыну в беде. Долго, томительно долго длилось молчание. Наконец она заговорила, положив руку на склоненную голову сына.
— Горько и больно видеть мне, как ты страдаешь. Разве я не люблю тебя больше жизни? Разве не долг мой облегчить твои страдания? Послушай, сын мой, что посоветует тебе твоя старая мать.
Ты дал клятву, и человеческие уши не должны услышать того, что тебе стало известно во дворце у хана. Но если ты будешь и долее молчать, как молчал до сих пор, недолго будет для тебя сиять солнце, а я этого не переживу. Ты молод, жизнь твоя только начинается, и я не хочу, чтобы тоска тебя погубила и свела в могилу.