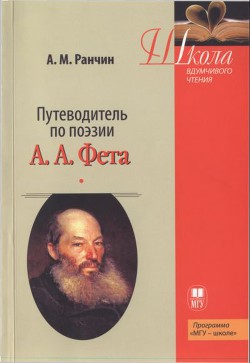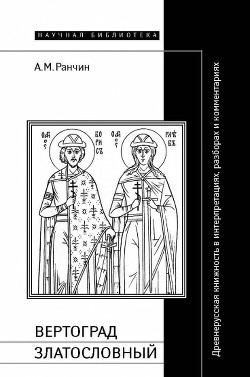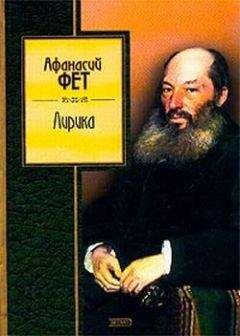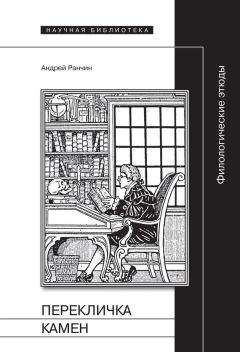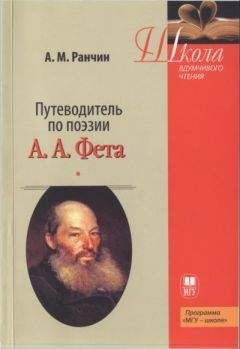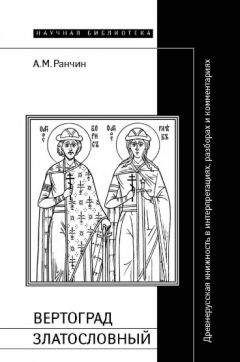Синтаксически третья и четвертая строки похожи, но их похожесть — «обратная». Третья открывается обстоятельством места (выраженным существительным муж. рода ед. ч. в предложном падеже) «на дворе», за которым следуют сказуемое (выраженное глаголом в форме наст, времени ед. ч. 3-го лица) играет и подлежащее (выраженное существительным женского рода в именит, падеже). Четвертая же строка, наоборот, открывается подлежащим (выраженным существительным мужского рода в именительном падеже) ветер, за которым стоит сказуемое (выраженное глаголом в форме наст, времени ед. ч. 3-го лица) свищет, а закрывает строку тот же оборот «на дворе», которым начинался предыдущий стих. Посредством такого «обратного» построения двух соседних стихов, своеобразного их «завихрения», вероятно, передается кружение ветра-метели. Но одновременно зеркальная синтаксическая симметрия этих строк, может быть, ассоциируется с замкнутым пространством комнаты, границы которой не может нарушить разыгравшийся ветер.
Дом в стихотворении — это, почти несомненно, помещичья усадьба с окружающим ее двором [5]; менее вероятно, что это городская усадьба, окруженная забором с воротами. (Такая деталь, как ковер, исключает возможность понимания дома как крестьянской избы — в крестьянских домах ковров не было.)
Центральная часть стихотворения — приказание, обращенное к мальчику и, по-видимому, принадлежащее его матери или, скорее, — если принять во внимание строгость и повелительность тона, — отцу [6]. Кто произносит эти слова, неизвестно: читатель слышит их, но «не видит» говорящего. Такой прием «умолчания», может быть, мотивирован дремотным восприятием мальчика и/или кота (ведь дальше говорится о его взгляде: «А кот глазами / Поводил»), Строфа состоит из четырех обращений-приказаний, три из которых выражены глаголами в повелительном наклонении. Эти категоричные обращения нарушают мирную дремоту в комнате.
Третья, последняя строфа соотнесена с первой по принципу неполной зеркальной симметрии: в первой строке говорится о вставшем с ковра мальчике и назван кот, но о его продолжающемся пении упоминается только в следующем стихе: вторжение повелительного голоса нарушило сонный покой в детской:
Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и всё поет…
Нарушение блаженного покоя передается стихотворным переносом: «А кот глазами / Поводил и все поет». Границы синтаксической основы предложения (подлежащее + сказ.: кот поет) не совпадают с межстиховой паузой. Но вскоре прежнее состояние дремоты восстанавливается: по-прежнему «кот <…> поет», как и в первой строке произведения.
В третьей и четвертой строках описывается, как и в третьем и четвертом стихах первой главы, буря:
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.
Однако и здесь нет тождества с описанием бури в первой строфе. С одной стороны, стихия, кажется, разыгралась еще сильнее: она уже пытается проникнуть внутрь дома, «атакует» его границу — окно: «В окна снег валит клоками». Только из этой, предпоследней, строки становится ясно, что непогода — зимняя. С другой стороны, теперь сказано, что «буря свищет» уже не «на дворе», а «у ворот», т. е. дальше от дома, за пределами двора. Уюту и покою дома ничто не угрожает. При этом синтаксис последних двух строк текста почти тождествен с синтаксисом последних строк первой строфы: обстоятельство места + подлежащее + сказуемое + обстоятельство образа действия (клоками — этого элемента в первой строфе не было) + подлежащее + сказуемое + обстоятельство места.
У Фета «часты повторы целых стихов — обычно в конце строф, без изменений (как в стихотворении „Мы встретились вновь после долгой разлуки…“) или с вариациями (как в стихотворении „Фантазия“, где последняя строфа повторяет первую, или как в стихотворениях „Я тебе ничего не скажу…“, „Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…“), где два начальных стиха в обратном порядке повторяются в двух конечных стихах. Нередки и более сложные повторы, как в стихотворении „Певице“, где последняя строфа объединяет (с вариациями) первые два стиха первой строфы с двумя последними стихами второй строфы» [Бухштаб 1959а, с. 49–50]. В стихотворении «Кот поет, глаза прищуря…» поэт тонко играет на повторах и на их неполном сходстве повторяющихся слов, выражений, строк.
В стихотворении дается изображение простой сценки, облеченное в форму фрагмента: сценка-миниатюра словно вырвана из повседневности, неизвестно ничего ни о времени, ни о месте этого эпизода, ни о мальчике, ни о взрослом [7].
Мир, воссозданный в стихотворении, — обыденный. Фет неоднократно, настойчиво утверждал, что источником поэтического произведения могут быть самые обыкновенные случайно увиденные вещи и явления: «К чему искать сюжеты для стихов, сюжеты эти на каждом шагу — брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты», — объяснял он еще в юности другу поэту Я. П. Полонскому (Я. П. Полонский, «Мои студенческие воспоминания» [Полонский 1986, т. 2, с. 444]; ср. толкование этого высказывания А. С. Кушнером: [Кушнер 2005, с. 12]).
А в статье «О стихотворениях Ф. Тютчева» (1859) он замечал в таком же роде: «…Самая высокая мысль о человеке, душе или природе, предлагаемая поэту как величайшая находка, может возбудить в нем только смех, тогда как подравшиеся воробьи могут внушить ему мастерское произведение» [Фет 1988, с. 284]) [8].
Близкий знакомый Фета литератор Н. Н. Страхов отметил влияние на Фета творчества немецкого поэта Г. Гейне («А. А. Фет. Биографический очерк Н. Н. Страхова» [Страхов 2000, с. 417–418]).
В юношеском увлечении Г. Гейне признавался и сам поэт (см.: [Фет 1893, с. 193, 209]. Увлечение было очень сильным: «Никто <…> не овладевал мною так сильно, как Гейне своею манерой говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения в общей картине, например, плачущей дочери покойного лесничего и свернувшейся у ног ее собаки» [Фет 1893, с. 209] (подразумевается стихотворение Г. Гейне «Die Nacht ist feucht und sturmisch…» («Сырая ночь и буря…»)).
Фет воспринял гейневские принципы в изображении природы. «Описание природы, как бы откликающейся на настроение лирического героя, выбор отдельных впечатляющих деталей вместо связного описания, иногда некоторая неопределенность фабулы при такой рисовке настроения — вот чему учатся у Гейне поэты 40-х годов, прежде всего Фет» [Бухштаб 1959а, с. 33–34] [9]. В этом отношении стихотворение «Кот поет, глаза прищуря…» до некоторой степени «гейневское».
Образная структура
Стихотворение построено на антитезе «внешний мир — дом». Холоду и свисту противопоставлено мерное, ровное мурлыканье («пение») кота, дисгармоничному движению — покой дремоты и сна. Кот как образ, воплощающий уют и покой, встречается также в стихотворении Фета «Не ворчи, мой кот-мурлыка…», написанном почти в одно время (1843) с «Кот поет, глаза прищуря…»:
Не ворчи, мой кот-мурлыка,
В неподвижном полусне:
Без тебя темно и дико
В нашей стороне;
Без тебя всё та же печка,
Те же окна, как вчера,
Те же двери, та же свечка,
И опять хандра.